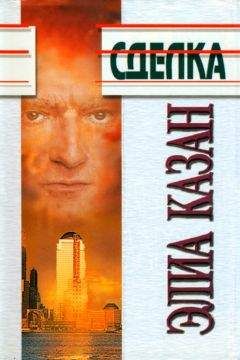Ну и черт с ней, подумал я. Сейчас решается моя дальнейшая судьба. И меня не заставят принимать необдуманные решения. Я буду делать то, что мне нужно, когда мне нужно, и пускай другие делают то же самое. И вообще, приму-ка я ванну! Душ был перед ужином, а сейчас — ванна, горячая, продолжительная.
В воду я накидал всяких солей. Флоренс принесла чистую пижаму. А я не торопился. Когда я, напарившись, вышел, то Флоренс сидела в шезлонге и курила сигарету, не затягиваясь, уставясь в маленький телевизор. Заметив меня, она выключила ящик. И мы остались вдвоем. Вдвоем.
Затем она заговорила мягко-мягко:
— Откровенно говоря, дорогой, моим первым желанием после просмотра было надавать тебе по физиономии. Или убить. Но одна деталь всегда помогает в таких ситуациях. Здравый смысл. Говоришь себе: «Остынь!», «Подумай!», «Поговори с людьми, которым ты веришь…»
Она поведала мне об Артуре Хьюгтоне и докторе Лейбмане. Кое-что я уловил, потому что отключился на время, недоумевая: Флоренс обращалась ко мне как к больному, очень осторожно, как обращаются с людьми на грани нервного срыва, как с психами или теми, кто достаточно ясно проявил себя как псих. А ведь она права! Я действительно вел себя как сумасшедший… Я настроился на ее голос снова.
— …Поэтому я подумала, что тебе больно, очень больно. И что проблема у моего Эванса, а не у меня. И сразу все стало на свои места: перешептывания и скрежетание зубов. Дорогой! Мне так стало тебя жалко, ты ведь не был способен отвечать за свои поступки, да, да, не был. Я сразу поняла, кого ты так ненавидишь. И не отчаялась. Ты ведь имел в виду ее? Нет, нет, не подумай, что я проверяю тебя! (Как она была корректна!) Знаю, что ты не любишь, когда тебя допрашивают, но ответь на один вопрос. Больше я ничего не спрошу.
— Да, — ответил я. — Когда я говорил: «Я тебя ненавижу!» — я имел в виду ее.
— Я так и думала, — продолжала Флоренс. — Поэтому поняла, что творилось в твоей душе. Вот ночной чепчик, дорогой, справа, на кровати. Догадываюсь, как тяжело лежать в одной постели со старой женой и желать всем сердцем другую женщину. Мне часто приходили на ум такие мысли. Наблюдая, как ты лежишь на спине (я уже лежал), смотришь в потолок и шевелишь губами… Помнишь ту ночь, когда ты… Я поняла, что причина не во мне. Все, все. Больше не буду выпытывать. Ни сегодня, ни завтра. Пусть пройдет время. Но в конце концов, дорогой, не сейчас, а потом, тебе все-таки придется принять решение. Ведь так все просто, не так ли? Или я, или она. Знаю, знаю, как тяжело даются подобные решения, но боюсь, что на этот раз тебе придется остановиться на чем-нибудь одном. Ведь я… тоже должна… мне тоже надо, если не с тобой, в общем…
Она глубоко затянулась, посмотрела в потолок и выпустила дым изо рта, так и не вдохнув его в легкие.
— Дорогой, — продолжила она, — увидев эти снимки и осознав, что они значат (она укладывала меня и поправляла постель), я очень, очень рассердилась. Ну как, тебе удобно? Да? Вот и хорошо. Но сейчас я больше не сержусь.
Флоренс прошла в ванную и заговорила оттуда:
— Я не сержусь. Ты нес такую ношу один, без чьей-либо помощи, без совета. Сегодня доктор Лейбман привлек мое внимание именно к этому аспекту. Как видишь, против тебя он ничего не имеет. Более того — он на твоей стороне. И еще я поняла его слова, сказанные несколько месяцев назад: «Представьте, что он болен», — сказал тогда он. Звучит довольно неприятно, но если вложить в него другой смысл… Я хочу, чтобы это слово казалось тебе мягким, выражающим искреннюю заинтересованность в твоей судьбе. Оно в какой-то степени даже ласковое — больной. Ты слышишь, как оно звучит?
Она выглянула из ванной. Улыбнувшись, она стала раздеваться, сказав: «Я хочу помочь тебе».
Ее улыбка не выражала притворства, натянутости или усилия над собой. Она скрылась в ванной, а я подумал, как же надо переломить себя, чтобы после всего увиденного этим утром на фотографиях остаться дружелюбной.
— Это одно из самых опасных заблуждений, — донесся ее голос из ванной, — бытующих среди людей, — считать, что человек может плотски принадлежать только одному человеку в одно и то же время.
Она выглянула из ванной. На ней уже не было одежды. В спальне горела лишь маленькая подсветка, основной свет исходил из ванной. В этом свете Флоренс выглядела… именно так, как хотела бы выглядеть сама.
— Люди, приверженные западной христианской традиции, — сказала она, — упорно верят, что любить можно только одну или одного. Неужели образ жизни твоих предков, более близких к язычеству, честнее выражает жизнь? И наше общество (ее голос заглушил шум хлынувшей из крана воды), исповедуя один образ жизни, на самом деле ведет другой?
Ее голова показалась из-за двери, затем она вышла в просвет и постояла так, ожидая ответа. Я внезапно осознал, как же долго я не видел ее вот так — полностью обнаженной. Избегал из-за некоей труднообъяснимой верности по отношению к Гвен. Флоренс доверчиво улыбнулась мне и скрылась за дверью. А я отметил про себя, что ее груди — давно я их не видел — гораздо больше, чем у Гвен.
— К примеру, — продолжила она, — лежать сегодня в одной постели с тобой я не смогу. Несмотря на твое, отличное от моего, воспитание и социальное происхождение, не думаю, что и ты сможешь. Ты ведь пробовал, но, увы, сам почувствовал, что тебе неудобно. Как-то чужеродно, не так ли? Конечно, я знала, что Ты в эти минуты витаешь где-то далеко. Ты слишком честен, дорогой, чтобы успешно скрывать подобные, очень важные вещи.
Флоренс закрыла воду и вышла из ванной. На ней был ночной халатик, тот самый, что мне очень нравился: ни шнурочков, ни подвязочек, тесемочек и ленточек, ни прочих идиотизмов типа «пожалуйста, развяжи, расстегни меня». Обыкновенная красивая, легкая ткань, неплотно облегающая женское тело. Она подошла ко мне.
— Должна признаться, — сказала она, — что оба, и Артур Хьюгтон, и доктор Лейбман, настоятельно советовали, один как юрист, другой как врач, чтобы я ни в коем случае не спала с тобой в одной комнате. Даже в одном доме. Ерунда, ответила я, ведь он же человек. И он все еще мой муж. Не мне судить, хуже это или лучше. Но, прости меня (она села на софу), сегодня я не смогу находиться к тебе ближе, чем сейчас.
Она легла на софе. Мы помолчали. Потом она заплакала. Еле слышно, Флоренс тактична даже в мелочах. Ее боль, как оно и должно было статься, все-таки вышла наружу.
— Флоренс! — позвал я.
— Не обращай внимания, дорогой, — всхлипнула она. — Я никак не могу решить, что мне делать. Наверно, надо ждать, пока ты сам решишь… выберешь… Время не имеет значения. И еще я подумала, что, в конце концов, я тоже человек и что мне тоже нужна обыкновенная теплота. По снимкам, хотя они и вульгарны, я поняла, что у тебя были очень близкие отношения с этой бродяжкой, — извини, дорогой, я не хотела, — но я буду ждать, сколько потребуется. Я постараюсь. Я обещаю тебе, что буду. Кстати, каким образом вы ухитрились проявить пленку и напечатать такие фотографии?
— У нее есть темная комната, — солгал я. Флоренс начала бы волноваться, узнав, что «пляж» видели другие люди.
— У кого?
— У Гвен.
Наступила тишина. Спустя минуту я услышал приглушенные рыдания. Как же трудно ей было не нарушать в этих условиях кодекс чести, насколько достойны восхищения ее усилия не нарушить его! Она плакала одна, на софе, и в ее плаче было столько неутоленного желания, столько зова…
Все к тому и шло. Уверен, что она и в мыслях не имела вернуть меня в супружеское ложе. Но желание женщины и эти чертовы усилия вести себя благородно с точки зрения общества и всех наших западных традиций не могли не вызвать отклика во мне. Любой мужчина, обладающий сердцем, не выдержал бы и откликнулся на такой сильный и чистый зов. Из ее глаз по дороге слез уходила надежда.
Потом, когда мы уже неподвижно лежали вместе, она спросила: «Эванс, что с нами будет?» А я ответил: «Дорогая, все будет хорошо». И я говорил искренне.
Я был страстен и нежен. Кто-то обязательно должен изучить взаимосвязь между сексом и жалостью. Мы были близки как никогда. И уже совсем потом, когда я вновь задумался, какую кашу заварил (сразу, лишь только секс кончился, я задался вопросом, а чем занимается Гвен; я не звонил ей целый день), Флоренс, умиротворенно засыпая (мы лежали в нашей обычной позе: ее нога на моей, ее голова на моем плече), ласково сказала:
— Эванс, я знала, что в конце концов разум в тебе победит. Годы, прожитые вместе, — не хлам, который не жалко выбросить. С миллионами семей случалось то же самое… — Она поцеловала меня в щеку и улыбнулась. — Поэтому люди выработали способы борьбы с подобными ситуациями. Это и есть цивилизация. Что касается нас — я останусь твоей женой. Знаю, что пройдет еще какое-то время, но я верю, что твоя… это явление временное. Мне хватило одного взгляда на фотографии, чтобы понять, что это бродяжка, извини, дорогой… Потом ты сам поймешь это. Она не твоего уровня, Эванс. Старый, добрый Эванс, так глупо, но после всего, если я не понимаю тебя, то что вообще я понимаю? Ты только побыстрей дай мне знать, хорошо? Побыстрей! Назовем это договором. Я не против, я никогда не думала, что ты сможешь… Только, Эванс… если тебе действительно надо повидаться с ней, то… Ой, сама не ведаю, что говорю. Я хотела сказать, не встречайся с ней больше. Не люби ее. Люби меня.