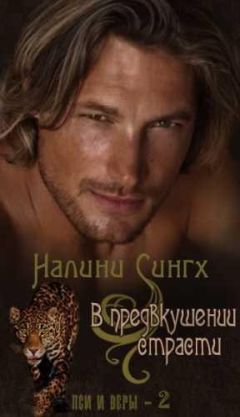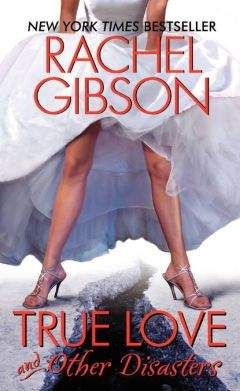— Хотите сыграть? — спросила я у него.
Его лицо вытянулось от удивления. Заметив у меня под мышкой доску, он усмехнулся.
— Маленькая сестренка, давно не играть я в куклы, — сказал он, благожелательно улыбаясь.
В качестве ответного хода я положила доску на скамейку, пододвинув ее поближе к нему.
Лау По, как он разрешил мне его называть, оказался гораздо более хорошим игроком, чем мои братья. Я проиграла много игр и потеряла много конфет «Лайф Сейверс». Но неделю за неделей, по мере убывания сладостей, я накапливала секреты. Лау По говорил мне названия. Двойная атака с западных и восточных берегов. Закидывание утопающего камнями. Неожиданная встреча клана. Сюрприз со стороны спящей охраны. Смиренный слуга, убивающий короля. Песок в глаза наступающему противнику. Двойное убийство без крови.
Кроме того, существовали правила шахматного этикета. Ставь отобранные фигуры ровными рядами, как военнопленных, заслуживающих достойного обращения. Никогда не торжествуй заранее, объявляя «шах», всегда может случиться, что какой-нибудь незамеченный тобой вовремя клинок перережет тебе горло в самый последний момент. Если ты проигрываешь, не швыряй свои фигуры в песок, потому что потом, попросив прощения у всех окружающих, тебе самой придется подбирать их. К концу лета Лау По научил меня всему, что знал, и я стала играть лучше него.
По выходным, когда я играла с несколькими противниками и разбивала их одного за другим, на аллее собиралась небольшая толпа китайцев и туристов. Во время этих показательных выступлений на улице моя мама присоединялась к наблюдающим. Она горделиво усаживалась на скамейку и с приличествующим китаянке скромным видом приговаривала «Удача везет» в ответ на восторженные возгласы почитателей моего таланта.
Один мужчина, увидев, как я играю в сквере, посоветовал моей маме отправить меня на городской шахматный турнир. Она одарила его любезной улыбкой, которая не Означала ровным счетом ничего. Мне отчаянно захотелось выступить на турнире, но я прикусила язык. Я знала, что мама не разрешит мне играть с незнакомыми людьми. Поэтому, когда мы шли домой, я произнесла слабым голосом:
— Мам, я не хочу играть на этом турнире. У них будут американские правила. Если я проиграю, я навлеку позор на всю семью.
— Позор падать, когда тебя не толкать никто, — сказала мама.
Во время моего первого турнира, пока я ждала своей очереди, мама сидела со мной в первом ряду. Я то и дело поднимала коленки повыше, чтобы не касаться голой кожей холодного металлического сиденья складного стула. Когда выкликнули мое имя, я подскочила со своего места. Мама извлекла что-то из складок своей одежды. Это был ее чан, маленький медальон из красного нефрита, в котором был заключен жар солнца. «Удача везет», — прошептала она и сунула его мне в карман. Я повернулась к своему противнику, пятнадцатилетнему мальчику из Окленда. Он, взглянув на меня, только сморщил нос.
Но едва я начала играть, мальчик как будто исчез, в помещении поблекли все краски, остались только мои белые фигуры и его черные, ждущие на другой стороне поля. Легкий ветерок задышал над моим ухом. Он нашептывал секреты, слышные мне одной.
«Налетай с юга, — шелестел он. — Ветер не оставляет следов». Я ясно видела тропу и засады, которые мне надо было обойти. По аудитории прошел шелест. «Шшш! Шшш!» — говорили углы комнаты. Ветер подул сильнее: «Запороши ему глаза песком с востока, это отвлечет его». Конь вышел вперед, готовый к самопожертвованию. Ветер свистел все громче и громче: «Налетай, налетай, налетай. Он ничего не видит. Он ослеп. Заставь его заслоняться от ветра, тогда будет легче поразить его».
— Шах, — сказала я, когда в реве ветра послышался смех. Ветер сник до тихих «пуфф-пуфф», превратившись в мое собственное дыхание.
Мама поставила мой первый трофей рядом с новыми пластмассовыми шахматами, которые преподнесло мне расположенное по соседству Общество Тао. Протирая мягкой тряпочкой каждую фигуру, мама приговаривала:
— Следующий раз выигрывать больше, отдавать меньше.
— Мам, дело не в том, сколько фигур ты отдаешь, — сказала я. — Иногда, чтобы продвинуться, нужно нести потери.
— Потери лучше меньше: свой надо беречь.
В следующем турнире я опять выиграла, но с видом триумфатора ухмылялась моя мама:
— Отдать восемь фигуры этот раз. Прошлый раз был одиннадцать. Что я тебе говорить? Свой надо беречь: потери лучше меньше!
Меня это ужасно раздражало, но что я могла поделать?
Я ездила на другие турниры, каждый раз все дальше от дома, и везде выигрывала. Китайская булочная под нашей квартирой выставила в своей витрине растушую коллекцию моих трофеев, поместив их среди покрытых пылью невостребованных пирожков. На следующий день после моей победы в важном региональном турнире в витрине появился огромный торт, украшенный взбитыми сливками, с красной надписью: «Наши поздравления Уэверли Чжун, шахматному чемпиону из Чайнатауна».
Вскоре после этого цветочный магазин, мастерская, специализирующаяся на могильных плитах, и похоронное бюро предложили мне свое спонсорство для игры в национальных турнирах. Именно тогда мама решила, что мыть посуду больше не входит в мои обязанности. Все мои домашние обязанности пришлось выполнять Уинстону и Уинсенту.
— Почему это она только играет, а мы должны делать за нее всю работу? — возмущался Уинсент.
— Новый американские правила, — говорила мама. — Мэймэй играть: выжимать мозги, чтобы победа. Вы играть: выжимать полотенце за такая игра.
К своему девятому дню рождения я была национальным чемпионом по шахматам. Мне все еще не хватало четырехсот двадцати девяти пунктов для звания гроссмейстера, но меня уже превозносили как большую американскую надежду вундеркинда, и не просто вундеркинда, а девочку-вундеркинда. Моя фотография появилась в журнале «Лайф», под ней были напечатаны слова Бобби Фишера: «Ни одна женщина не станет гроссмейстером». «Твой ход, Бобби» — гласил заголовок.
В тот день, когда делали фотографию для журнала, у меня были аккуратно заплетенные косички, заколотые пластмассовыми заколками со стразами. Я играла в большой университетской аудитории, в которой гулким эхом отзывался чей-то грудной кашель. Было слышно, как скрипели подбитые резиной ножки стульев, когда их двигали по начищенному деревянному полу. Сидевший напротив меня человек был американец примерно такого же возраста, как Лау По, — около пятидесяти лет. Его потные брови, казалось, влаготочили при каждом моем движении. На нем был вонючий темный костюм. Содержимое одного из его карманов составлял огромный белый платок, о который он каждый раз вытирал свою ладонь, перед тем как со всей торжественностью пронести руку к выбранной фигуре.
Я была в бело-розовом платье с колючими кружевами у горла, одном из двух, сшитых моей мамой для таких случаев. Я сидела так, как мама учила меня позировать для прессы: сложив руки под подбородком и едва касаясь стола острыми локотками. Будто нетерпеливый ребенок в школьном автобусе, я болтала туда-сюда ногами в лакированных туфлях, затем ненадолго замирала, втягивала губы, как бы в нерешительности помахивала высоко в воздухе выбранной фигурой, а потом плавно помещала ее на новое место, грозившее моему противнику новыми неприятностями, и с победной улыбкой бросала на него взгляд, как бы предлагая ему раскусить мою хитрость.
Я больше не играла на аллее Уэверли-плейс. Я больше не появлялась на детской площадке, где собирались старики и голуби. Я ходила в школу, а после нее сразу же отправлялась домой, где принималась за изучение новых шахматных секретов: как похитрее замаскировать свои преимущества и как половчее выбраться из той или другой западни.
Но дома было трудно сосредоточиться. Мама завела привычку стоять позади меня, пока я разыгрывала тренировочные партии. Думаю, она возомнила себя моим покровителем и союзником. Губы ее были крепко сжаты, и при каждом моем движении из ее ноздрей вырывалось мягкое «хмммф».
— Мам, я не могу тренироваться, когда ты там так стоишь, — сказала я однажды.
Она ретировалась в кухню и загремела кастрюлями и сковородками. Потом грохот прекратился, и я увидела краем глаза, что она стоит в дверном проеме. «Хмммф!» — только это и слышалось сквозь ее стиснутые губы.
Мои родители делали мне любые поблажки, лишь бы только я тренировалась. Однажды я пожаловалась на то, что в нашей спальне очень шумно и я не могу думать. Кровать моих братьев сразу же перенесли в гостиную, выходившую окнами на улицу. Я говорила, что не могу доесть свой рис, что при переполненном желудке у меня голова не работает в полную силу, и уходила из-за стола, оставив на тарелке недоеденную порцию, и никто не возмущался. Но у меня была одна обязанность, от которой я не могла уклониться. По свободным от турниров субботам я должна была сопровождать маму в походах по магазинам. Мама гордо водила меня за собой, заходя почти во все магазины и почти ничего не покупая. «Эта моя дочь Уэв Ли Чжун», — говорила она каждому, кто бы ни взглянул в ее сторону.