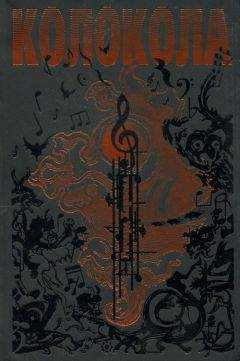— Псст! — услышал я чей-то шепот.
Кажется, этого, голоса больше никто не слышал. Я обернулся к двери. В щель заглядывал чей-то глаз. Раньше никто не изъявлял желания говорить со мной, кроме Ульриха и Николая, поэтому я не обратил внимания на этот голос и вернулся к своей трапезе.
— Псст! Эй, монах!
Я снова обернулся и на этот раз увидел голову Амалии Дуфт, заглядывающую в приоткрытую дверь.
— Иди сюда!
Я повиновался, правда с осторожностью, будучи уже хорошо осведомлен о том, что за дружескими увертюрами часто следуют жестокие шутки. Едва я подошел к двери, Амалия схватила меня за руку, вытащила из комнаты и захлопнула за нами дверь. На ней был белый пеньюар, и она очень сердито смотрела на меня.
— Ты отвратителен, — сказала она.
Я подумал: Почему люди ищут меня только для того, чтобы обидеть?
Но потом мне пришло в голову, что на самом деле вся нижняя часть моего лица лоснится от бараньего сока и куриного жира. Я вытер лицо рукавом своей певческой накидки. Амалия застонала и, схватив меня за руку, потащила по коридору. В умывальной она вытерла мне лицо и руки мягким полотенцем и бросила его на пол.
— Быстро, — сказала она и потянула меня за рукав. — Я уже должна быть в постели.
Звяканье, шум падающих капель и бормотание дома Дуфтов то приближались ко мне, то отступали, покуда она вела меня по коридорам известным только ей путем, который я сам вряд ли смог бы повторить. Мы почти бежали, и из-за хромоты она раскачивалась из стороны в сторону. Амалия снова посмотрела на меня.
— Очень многие люди падают с крыши, — сказала она. — Матиас фон Груббер упал с той же самой крыши, что и я, но только он приземлился на кучу навоза. А я на плуг. Каролина говорит, что Бог сделал это для того, чтобы утихомирить меня, но это меня не утихомирило, да и в любом случае Бога нет.
Последнее замечание заставило меня отшатнуться от нее в ужасе, но она с удвоенной силой потащила меня за собой. Когда же я снова ничего не сказал, она покачала головой:
— Почему ты не говоришь?
Потому что я не знаю, что сказать, ответил бы я, если бы набрался смелости.
Она пожала плечами и продолжила:
— Я не против. Ненавижу слушать людей. Мари вот никак не заткнется. Я пыталась залепить уши воском, так она, чтобы ее услышали, начала кричать. Ты конечно же можешь не молчать, но и болтать ты не обязан.
Никто раньше не говорил мне так много слов, кроме Николая и Ульриха. И вообще, все это выглядело весьма подозрительно. Мне никогда не найти дороги обратно, если она бросит меня здесь или, что еще хуже, отведет меня в компанию своих злобных друзей. На нашем пути больше не было окон, и звуки из стен становились все слабее и слабее. Я рассудил, что мы зашли в необитаемую часть дома Дуфтов.
Наконец она замедлила шаги. В конце длинного прохода стоял стол, за ним виднелась двустворчатая дверь. За столом сидел старик, глаза его были полузакрыты. Перед ним на столе стояла свеча и были аккуратно разложены гусиное перо, бумага и серебряные часы.
— Фройляйн Дуфт, — отчетливо произнес он, когда мы приблизились, и написал что-то на бумаге.
Я заглянул в нее и увидел, что там было нацарапано ее имя.
— Если ты, Питер, не скажешь моему отцу, что мы сюда приходили, я принесу тебе сигару, — пообещала она.
Он продолжал писать.
— Две сигары.
Он покачал головой:
— Мои данные самые точные.
Я взглянул на лист бумаги, лежащий перед ним. Аккуратными колонками он был поделен на две части:
Пока я читал этот список, из-за дверей послышался хриплый кашель. Питер взглянул на часы. Амалия застонала и схватилась за дверную ручку.
— Не мешай! — приказал Питер и наклонил голову. Когда кашель прекратился, он посмотрел на часы.
Записал: «Кашель (хриплый): 20:34 (продолжался 24 секунды)».
— Мы идем туда. — Амалия схватила два куска черного шелка из кучки таких же кусков, лежащих на столе.
Внезапно летаргический Питер куда-то пропал, и его место занял рыцарь, который вдруг вскочил на ноги и схватил меня за запястье.
— Нет, — сказал он, потрясенный. — Только не он!
— Я разрешаю, — сказала Амалия.
Питер с изумлением посмотрел на нее. Потом притянул меня ближе к себе, так что я смог почувствовать его дыхание — от него воняло кислым вином.
— Она не позволит ему, — прошептал он.
Амалия топнула здоровой ногой.
— Мы идем туда, — повторила она.
Старик притянул меня к себе еще ближе. Я попытался вырваться, но хватка его была слишком крепкой.
— Не ходи туда, — прошипел он мне на ухо.
Амалия схватила меня за другое запястье:
— Не слушай его. Отец будет доволен.
— Доволен! — повторил Питер. — Доволен тем, что ты разрушаешь эксперимент? Как тогда сможет выздороветь фрау Дуфт? Скажите мне, фройляйн Дуфт!
И пока они выворачивали мне руки, я вертел головой, переводя взгляд с его ужимок на сердитое лицо девочки.
— Пни его, — прошептала она.
Я так и сделал. Пнул его в щиколотку, он взвизгнул и выпустил мою руку. И запрыгал на одной ноге, растирая ступню. Раскаяние охватило меня, я уже готов был броситься помогать ему растирать ногу, но Амалия распахнула дверь и втолкнула меня внутрь.
— Я иду за господином Дуфтом! — завопил Питер.
Но Амалия захлопнула дверь, и мы остались одни в темной комнате.
Правда, не совсем одни — в ней был кто-то еще. Женщина — я распознал это очень быстро. Она непрерывно кашляла и, задыхаясь, с хрипом вдыхала воздух, наполняя им себя, а потом как будто кто-то протыкал ее, и воздух выходил из ее легких. На столе горела тонкая свеча, но за пределами ее слабого ореола мои глаза ничего не могли разглядеть. Звуки дома Дуфтов сюда совсем не доносились. Я не слышал ни звяканья, ни шепота стен, ни звуков города и ночного ветра снаружи.
Я вздрогнул, когда Амалия обвязала мое лицо куском шелка. Он пах углем.
— Все в порядке, — сказала она. — Мы должны носить их, чтобы не заболеть. Если будешь дышать одним воздухом с больным, заболеешь сам. Мама больна.
Так, значит, это фрау Дуфт была в дальнем конце комнаты. Я испугался и был очень рад, когда Амалия взяла меня за руку. Ее ладонь была самой мягкой из всех ладоней, которых я когда-либо касался. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел громадную кровать. На ней было столько подушек и одеял, что если бы я не слышал дыхания, то не смог бы с точностью сказать, один человек лежит на этой кровати или пять. Горевшая у нас за спиной свеча отбрасывала на стену наши с Амалией огромные тени. Я крепко держал ее за руку. — Матушка! — прошептала Амалия. — Матушка, проснитесь!
Она потянула меня к кровати. Я не поддавался, но она была сильнее меня и более решительной.
В одеялах на кровати появилась щель. Костлявая рука выскользнула из нее наружу. Амалия положила на нее свою руку, став связующим звеном между нами.
— Амалия, — раздался хриплый шепот. — Что ты здесь делаешь? Уже поздно.
В темном углублении в одеялах я разглядел сияние пары глаз.
— Мама, смотри, кого я к тебе привела. Певца.
Амалия подтащила меня еще на шаг ближе. Я смотал на нее, не зная, что делать. Она сжала мне руку и кивнула.
— Все хорошо, — прошептала она. — Пой.
Меня учили петь в церковном хоре. Мы исполняли духовную музыку в особых, предназначенных для этого местах. И несмотря на то что нас брали внаем и нам случалось петь на приватных богослужениях, мы никогда бы даже рта не раскрыли, не будь поблизости алтаря с Библией. Я не был ни менестрелем, ни знахарем, которому ведомы заклинания, чтобы лечить болезни.
Поэтому петь я не стал.
— Пожалуйста, — взмолилась Амалия. Она сжала мою руку и прижала ее к своему громко стучавшему сердцу. — У нас совсем немного времени. Скоро сюда придет отец.
Это показалось мне весомой причиной для того, чтобы сбежать, а не петь. Внезапно я испугался этой девочки, целовавшей змей и говорившей, что Бога нет. Я попробовал вырваться, и мне почти это удалось — теперь она сжимала в кулаке только мой указательный палец, — но тут одеяло сдвинулось в сторону.
И при свете свечи я увидел лицо фрау Дуфт.
Это может показаться невероятным, но я увидел свою мать. На мгновение мне показалось, что это была она, спрятавшаяся в этих простынях, и я чуть не закричал от радости. Потом я вспомнил, что лицо моей матери было грязным, а это лицо, лицо фрау Дуфт, было чистым и бледным. Кожа у матери моей была грубой, как дубленая шкура, а у фрау Дуфт она была как тонкий натянутый муслин. Волосы моей матери были распущены и взъерошены, а у фрау Дуфт они были тщательно вымыты и собраны на затылке. Моя мать была сильной. Фрау Дуфт была слабой. Но от этих запавших глаз, от нижней губы, дрожавшей от напряжения, до меня донесся отголосок того тепла, которое я воскрешал в своей памяти при мыслях о жизни на колокольне. В тот момент я готов был дать обещание Господу навечно закрыть рот свой, если бы только моя мать хоть раз смогла услышать, как я пою.