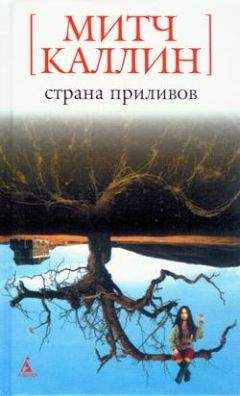— В книге сказано, что его убили две тысячи лет тому назад, — прошептал он, обдавая меня запахом бурбона.
Тогда я приподнялась на локте и, устало моргая, начала разглядывать хорошо сохранившиеся костлявые останки Болотного Человека, который лежал на боку на мокрой земле и как будто спал: его ноги были согнуты в коленях, скрещенные руки прижаты к животу, подбородок упирался в грудь. На лице застыло выражение добродушия: прикрытые глаза, оттопыренные губы.
— Его убили? — переспросила я.
— Повесили, а потом сунули в какое-то датское болото. Так что перед тобой тип мертвее мертвого.
— А кто его убил?
— Кто знает, — ответил он, захлопывая книгу. — Остается только надеяться, что через пару тысяч лет мы с тобой будем выглядеть не хуже. Это я и хотел тебе сказать.
Потом он поцеловал меня слюнявыми губами в лоб и сказал, чтобы я ложилась спать, а то и мать, и все болотные люди в мире ужасно рассердятся. А когда он, пошатываясь, выходил из комнаты, я попросила его не выключать свет.
— Ладно, детка, — сказал он, — не буду.
Но и свет не очень-то помог. Картинка преследовала меня, как кошмар, и я не могла заснуть несколько часов подряд.
А несколько ночей спустя мне приснилось, что Болотный Человек материализовался в моей спальне и пытается задушить меня подушкой. Веревочная петля перечеркивала его шею, сдавливая горло, обрывок веревки змеей извивался по его груди. А когда он нагнулся ко мне с подушкой в руках, я, наверное, закричала во сне, потому что, когда я открыла глаза, надо мной стоял отец и убирал с моего лица волосы, прядь которых умудрилась как-то залезть ко мне в горло.
— Что это с тобой? — спросил он полушепотом. — Кошмарики снятся?
И взял меня на руки.
Я обхватила его руками за шею, уткнулась лицом в его футболку, и он понес меня в комнату, где спала мать. И, помню, я тогда подумала, что не родился еще такой болотный человек, который справился бы с моим отцом.
Но здесь, в доме, о Болотном Человеке напоминала не только карта, но и лицо моего отца — бесстрастное, все в складках и морщинах, неподвижное, как будто пролежало в банке со спиртом тысячу лет. «Конский хвост» из перетянутых резинкой черных волос свешивался через его плечо на обтянутую водолазкой грудь. В свои шестьдесят семь — почти на сорок лет старше матери — он был поджарым, а его руки остались крепкими и мускулистыми. В тишине гостиной нетрудно было представить, будто он и есть человек железного века, которого только что вытащили из-под земли, посадили в кожаное кресло и повернули лицом к стене, так что его неподвижные зрачки за стеклами темных очков навеки впились в карту геогностических условий Дании.
— Слушайте-ка сюда, — сказал он как-то утром за завтраком своим протяжным южным говором.
Мы с матерью сидели тут же, за обеденным столом, — редкий случай, когда все трое бодрствовали одновременно.
— Тихая, уединенная жизнь в Дании — вот чего нам не хватает. Вот что я надумал.
Он и его группа «Блэк Коутс» играли всю ночь, сначала в одном клубе в Западном Голливуде, потом в другом, а под утро он вернулся домой и принес пакет печенья со вкусом яичницы с ветчиной и сыром из «Макдональдса».
Скорчив гримасу, мать опустила надкушенное печенье и сказала:
— Ну и что нам там делать, в этой твоей Дании? Ты хоть был там когда-нибудь? — Потом перевела взгляд на меня и проворчала: — И как только такое дерьмо ему в голову приходит?
Вопрос не требовал ответа, так что я продолжала молча есть.
Слегка нахмурившись, он сказал:
— Я просто подумал, что, может быть, нам лучше переехать куда-нибудь, где нет телефона. Никто не будет знать, что мы там, и если кому-нибудь захочется меня выследить, то ни меня, ни тебя, ни Джелизу-Розу они не найдут.
— Я никуда не поеду, — сказала мать, проглатывая последний кусок, — даже не пытайся меня уговорить. Дурацкая идея.
— Ну ладно, как хочешь, — ответил он. Не глядя ни на нее, ни на нетронутое печенье на своей тарелке, он уставился прямо на меня и подмигнул. — А мы с Джелизой-Розой, наверное, съездим. Ты как, а?
Я пожала плечами и улыбнулась с набитым ртом.
Мать тряхнула волосами:
— Ной, ты со своей говнюхой можешь убираться когда вздумается. Мне плевать.
Когда она встала, ее халат распахнулся, и она сбросила его на пол одним движением плеч. Рыхлая белизна ее тела содрогалась, когда она выходила из-за стола.
Отец наклонился вперед и прошептал:
— Твоя мать — норвежская королева Гунхильда, вдова короля Эрика Кровавого Топора. Король Харальд пообещал жениться на ней и обманом заманил ее в Данию, она поехала, а ее утопили в болоте. Не очень-то это было красиво с их стороны.
— Совсем некрасиво, — сказала я.
— Думаешь, она это заслужила?
— Нет.
— Нет, — повторил он, разглядывая печенье, — наверное, не заслужила.
Его плечи поникли, а заросший щетиной подбородок навис над тарелкой.
В тот день, когда мы с отцом сбежали наконец из города, он сказал, что земля Ютландии ждет нас. В его рюкзаке лежала карта, которую он вырвал из библиотечной книжки. И когда мы сели в «грейхаундовский» автобус и поехали на восток, глядя, как проплывают за его тонированными стеклами пальмы и многоквартирные дома, отец вытащил ее и расстелил на коленях. Трясущимся пальцем он указал нашу цель — Западную Ютландию, где в глубине великих бескрайних равнин спят болотные люди.
Потом он аккуратно сложил карту и убрал ее в рюкзак, рассеянно шепча:
— Я вижу перед собой ее темные берега, убранные прекраснейшими цветами из садов Создателя, я вижу мужчин и женщин Дании, которые приветствуют солнце мая, встающее на востоке. Я слышу их приветственную песнь — песнь свободы, которую сложил датский народ. Я слышу, как волны разбиваются о датский берег, вторя торжествующим голосам людей.
Я знала, что он вот-вот отключится, как всегда после фортрала, сильного болеутоляющего средства, которое помогало ему держаться на ногах, — так он, по крайней мере, говорил. Но мне было все равно. Я радовалась, что куда-то еду. А еще мне было весело оттого, что королева Гунхильда не смогла поехать с нами, пусть даже приехали мы всего лишь в Техас, а вовсе ни в какую не в Данию.
В тот первый вечер в старом доме я, встав между отцом и висящей на стене картой, спросила:
— Папа, а Ютландия похожа на Техас?
Но он ничего не слышал, так что говорить с ним было бессмысленно. Его дыхание стало неглубоким. А мне хотелось спать.
Выходя из гостиной, я представила, как будто я — это Алиса и лечу все вниз, вниз и вниз по кроличьей норе. Больше всего в «Алисе в Стране Чудес» я люблю это место: «Вот это упала так упала! Упасть с лестницы для меня теперь пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая».
Я часто просила отца почитать мне его, и он высоким девчачьим голоском говорил: «Дина будет меня сегодня целый вечер искать».
— Диной звали ее кошку, — говорила я.
— Надеюсь, они не забудут налить ей молочка в обед. Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй! Интересно, едят ли кошки мошек?
Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала:
— Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек?
Иногда у нее получалось:
— Едят ли мошки кошек?
Алиса не знала ответа ни на первый, ни на второй вопрос, — подхватывала я, зная наизусть каждую строчку, — и потому ей было все равно, как нос ни повернуть. Она чувствовала, что засыпает. Ей уже снилось, что она идет об руку с Диной и озабоченно спрашивает:
— Признайся, Дина, ты когда-нибудь ела мошек?[1]
Вот и в ту ночь в старом доме я, поднимаясь наверх, думала об Алисе.
Она боялась, что пролетит всю землю насквозь, и представляла себе, как смешно будет оказаться среди людей, которые ходят вниз головой. А еще она не будет знать, где она, так что придется спросить у них, как называется их страна. Новая Зеландия? Или Австралия? Но уж, наверное, не Дания, ведь путь в нее лежит не через кроличью нору.
Мой единственный матрас был без простыни. Не было ее и на двуспальной кровати, куда отец кинул свой рюкзак. Наши комнаты на верхнем этаже разделяла ванная, единственная во всем доме, но в ней не было воды. А когда мы приподняли крышку унитаза, оттуда вырвалась такая едкая вонь, как будто где-то в трубе застряли тухлые яйца.
Отец сказал, что придется копать новый колодец. Он говорил, что тут вообще много чего придется сделать.
— Двор надо привести в порядок, — сказал он на второй день нашего путешествия в «грейхаунде». — Мать, пока была жива, нанимала парнишку полоть сорняки и подстригать траву. На чердаке жили белки, но я от них избавился, а то они постоянно грызли проводку и все на свете. К тому же по утрам они вечно устраивали жуткий тарарам, и вообще меня всегда бесило, что они там. Правда, мать их любила. Говорила, что с ними в доме не так одиноко.