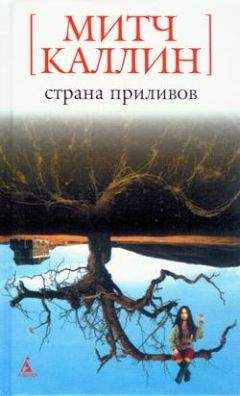— Давай, — сказал отец, ставя обутую в ботинок ногу на нижний в изгороди у ворот ряд колючей проволоки. Он прижал колючку к земле, и получился проход.
Я пролезла под изгородью, он за мной, натужно кряхтя от боли в спине. Потом мы вдвоем зашагали по размытой дождями подъездной дороге из гравия, каждый по своей колее.
— Трава все заполонила, — пробормотал он себе под нос.
Потом глянул на меня и пояснил:
— Когда на земле не пасут скот, трава становится жадной.
Через полмили, дойдя до развилки между двумя кедрами, мы увидели дом.
— Вот это да! — сказала я, подходя к отцу, который остановился у дерева. — Это что, и есть Рокочущий?
— Он самый, — ответил отец, вытирая ладонью лоб. Рюкзак лежал на земле у его ног, рядом с ним — разорванный пакет с едой.
Не сводя с дома глаз, я опустила свой чемодан и бутыль с водой на землю.
Флагшток без флага стоял почти у самой веранды, опоясывавшей весь дом. На крыше был медный флюгер, только не в виде петуха, как обычно, а в виде кузнечика. И хотя дом почти ничем не отличался от множества других фермерских домов по всему Техасу — та же островерхая крыша и отсутствие перегородок внизу, — его изъеденные непогодой доски, сухие, серые и растрескавшиеся, придавали ему особенно унылый вид. Еще не ступив через порог, я уже почувствовала, что в доме прячутся слои пыли, заросли паутины, крошки и мышиный помет, которые мы вскоре и обнаружили.
— Наконец-то дома, — сказал отец, похоже испытывая облегчение. Он скинул рюкзак, расстегнул молнию, пошарил внутри и вытащил ботиночный шнурок, на котором болтался ключ.
Меньше чем через три минуты я была уже на втором этаже Рокочущего и из окна своей спальни смотрела на перевернутый школьный автобус, а отец внизу вешал карту Дании на стену.
Наступила ночь.
Я сходила к автобусу и вернулась. Теперь я снова была наверху, отец остался в гостиной. На краю единственного матраса, с выцветшим коричневым пятном во всю середину, лежал мой раскрытый чемодан. Бережно я начала вытаскивать вещи, которые успела уложить, — атласную ночную сорочку моей матери и кучку разрозненных частей тела от кукол Барби (четыре головы, две руки, одно туловище, шесть ног; все в свое время выуженные из контейнера со всяким хламом в магазине подержанных товаров). Кроме содержимого того чемодана, тоже купленного в комиссионке, у меня было еще платье, пара трусов, носки и кроссовки, а больше ничего.
Непрерывно покусывая саднящую губу, я аккуратно разложила свои пожитки. Ночная сорочка, сложенная впопыхах, легла отдыхать на матрасную подушку — честь в моем тогдашнем представлении просто королевская. Части кукол заняли свои места вдоль подушки: сначала головы, потом руки, потом ноги и, наконец, туловище.
Потом я застегнула молнию на чемодане, с сожалением отметив, что светящиеся наклейки с цветочками уже начинают отставать, и сунула его под кровать. Пока я стояла на полу на четвереньках, на половицу упала крошечная капелька крови. Тогда я поднесла сложенную ковшиком ладонь ко рту и стала пускать в нее слюну, глядя, как тоненькая красная струйка превращается в лужицу.
— Я умираю, — с притворным ужасом сказала я, подражая голосам актрис из сериалов. — Я больше не могу жить, но мне нельзя умереть.
Я пошла в ванную посмотреться в зеркало. Выпятив нижнюю губу, я увидела на ней узенькую трещинку, из которой сочилась кровь, но, к моему разочарованию, ничего больше. Тогда я сплюнула в раковину, надеясь, что мой плевок станет вдруг большим и ярко-красным. Но он не стал. И вообще оказался почти совсем прозрачным.
— Вы будете жить,— сообщило мне мое отражение, копируя манеру телевизионного доктора. — Вас ожидает полное выздоровление.
— Спасибо, спасибо, — ответила я ему. — Вы подарили мне надежду.
Потом я открыла кран, молясь, чтобы из него вытекло хоть немного воды почистить зубы. Но ничего не произошло. «Ну и ладно, — здраво рассудила я, — все равно у меня нет с собой ни щетки, ни пасты». А когда я прижала к зубам палец и поводила им взад-вперед, как будто это была зубная щетка, из трещинки на моей губе вытекла еще одна капелька крови.
Мое отражение ухмыльнулось, и я увидела, как кровь пачкает мне зубы.
— Теперь ты вся красная, — сказала я, имея в виду свои оранжевые волосы, веснушки и гиацинты на платье.
— Просто отвратительно! — воскликнуло мое отражение с английским акцентом, заслышав музыку, которая едва доносилась из спальни отца. — Какой ужасный шум, Джелиза-Роза!
— Да, пора положить этому конец, — ответила я, поворачиваясь к зеркалу спиной.
И направилась к другому выходу, который вел в соседнюю спальню.
Когда я вошла, дверные петли заскрипели, как в каком-нибудь фильме ужасов, так что я остановилась на пороге, посасывая нижнюю губу и оглядывая комнату: рюкзак на кровати, зажженный ночник на тумбочке, тощий истоптанный коврик на полу. Отцовская спальня ничем не отличалась от моей, только матрас у него был двуспальный и пятно на нем больше. На подоконнике, в изголовье кровати, карманный радиоприемник передавал музыку: «Детка, как ты завела меня, я так завелся, что себя не помню»,— и я вспомнила, как, пока мы ехали на «грейхаунде» через пустыню, отец все время прижимал этот приемник к уху, то слушая с закрытыми глазами, а то и засыпая под музыку, новости или атмосферные помехи.
— Как ты завела меня, как ты меня завела, — напевала я, подходя к матрасу.
Содержимое рюкзака лежало маленькой кучкой на кровати — нестираная одежда да пустая бутылка из-под персикового шнапса сверху. Коробка из-под сандвичей, когда-то полная разных таблеток, опустела и была теперь надета на горлышко бутылки, точно какой-то хитро придуманный презерватив. И я представила себе, как мой отец все глотает, глотает, глотает таблетки, а потом вздыхает с облегчением и ждет, когда начнутся галлюцинации и завихрения. «Завихрения, — так он их называл, — выметают у меня из головы всякую дрянь».
Я залезла на матрас и подобралась к подоконнику. Раздвинув шторы, я увидела вспышку стробоскопического света на далекой телефонной вышке.
И больше ничего.
Я даже не знала, что за окном бывает так темно. Казалось, все на свете, кроме стробоскопа да пары мотыльков, которые бились в стекло, провалилось в какую-то черную яму. Остались только я, мой отец, Рокочущий да радио. Джонсонова трава исчезла. И горизонт тоже.
Подражая Патрику из магазина, я прозаикалась:
— Я-я-я бы с-с-спятила, п-п-роживи я здесь так долго, ка-а-ак он.
Потом взяла с подоконника радио и пошла к себе.
Я лежала голая, забросив руки за голову. Платье я кинула на пол, поверх кроссовок с носками, а рядом со мной на тумбочке распевало блюзы карманное радио. Материна ночная сорочка, розовая, гладкая и блестящая, покрывала меня с головы до ног. Я чувствовала запах ее тела, навязчивый и неистребимый. Сорочка была такая огромная, что в какой-то миг я просто в ней потерялась — мои руки царапали ткань изнутри, ища рукава, голова тыкалась в шелк, не находя выреза.
«Безголовая домохозяйка, — подумала я, — хлопает руками, как курица крыльями».
Когда я наконец пролезла в воротник, мои наэлектризованные волосы стали дыбом. Я закатала рукава повыше и попробовала покружиться, как дервиш. Но длинная сорочка мешала, так что пришлось мне остановиться.
— Ты спятила, — сказала я себе, беря радио. — Совсем с ума сошла.
— Ну вот, похоже, последняя надежда на то, что пойдет дождь, почти улетучилась, — хриплым голосом сообщил диджей вслед затихающей песне. — Что ж, вместо ударов грома послушаем мистера Джона Ли Хукера, который по просьбе Джима из Саладо сейчас споет свое «Бум-бум-бум» для всех клиентов пристани Стиллхауз на Холлоу-Лейк.
Ah-boom boom boom, I wanna shoot ya right down!
Когда я спускалась вниз, в руке у меня вибрировал Джон Ли Хукер. Сорочка путалась под ногами, так что шагать с одной скрипучей ступени на другую надо было с оглядкой. И все же я добралась до конца лестницы без приключений, представляя, как будто я — прелестное маленькое привидение, которое спархивает вниз по лестнице в темную столовую. Когда я одолела последнюю ступеньку, подол сорочки заскользил по половицам, поднимая пыль. Ну и ладно. Все равно все кругом было пыльное — и длинный обеденный стол, и дубовый буфет, и даже воздух, которым я дышала.
— А-а-а-ап-чхи! — притворно чихнула я, надеясь привлечь внимание отца.
Справа от лестницы была кухня, а слева столовая и гостиная, разделенные плитой, которую топили дровами. Поскольку никаких перегородок в нижней части дома не было, то заглянуть во все комнаты по очереди было легче легкого, особенно стоя на нижних ступенях лестницы.
— А-а-а-ап-чхи! — снова чихнула я, но отец все так же неподвижно сидел в гостиной, и тогда я повернулась кругом и скользнула в кухню.