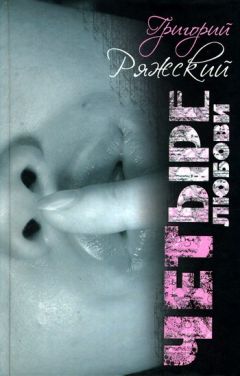Это написано мною за четыре года до встречи с Митей — я купил в «Букинисте» «Царя Максимилиана» и, коли такие большие деньги потрачены, четыре рубля, надо их как-то отбить, надо на этом свою эстетику построить. И тут, не успел я в эстетике повторений разочароваться, — Митя предстает воплощением этой странной «молодой культуры». Вот одно из стихотворений, Митей написанных:
1983 ГОД
О, как все было хорошо! Как хорошо все было...
Как видим, даже столь ограниченный объем произведения оставляет место для повтора. А если выйти за пределы одного высказывания, одного анекдота — найдем просто железный, солдатский ритм повторения. Митя всю жизнь повторяет те же шутки; взгрустнув — читает одни и те же строчки из Роальда Мандельштама. По-настоящему смешной (не столько смешной, сколько уютной, свойской) шутка делается не сразу, а после многократного повторения. (Признаю, это — собственная Митина идея, вошедшая в конструкцию «Митьков». Разумеется, он не формулировал данную идею, но практически воплощает.)
Мне это с годами здорово надоело. Ведь, высказывая одну мысль разным собеседникам, стараешься по-разному и сказать; неприлично перед самим собой, глупо талдычить одно и то же. Но с другой стороны, многие притчи напоминают: в разном контексте смысл одной той же фразы полностью меняется.
Надоело или нет, а за 25 лет движения митьков пришлось научиться повторять корреспондентам стандартные фразы, тут на контекст не сошлешься, контекст одинаковый. Редкий журналист удосужится прочитать «Митьков», так что для каждого скажи вводную: в чем смысл движения — да тут и конец интервью. Митя произносит несколько цитат из «Митьков» и бодрое дружеское пожелание, всё.
Чтобы экономить нервную энергию, зря не заморачиваться, мозг лишний раз не напрягать — и живопись митьков состоит из повторов. Поначалу мы этого еще стеснялись, стыдили друг друга: что, опять копию с перекопии написал? Потом стало нормой, что даже на выставке висят оригинал и несколько повторов. В этом был, впрочем, некий тонкий ритм, рифма, что ли; но не для создания ритма эти перекопии писались. Чтобы далеко не ходить за примером: у меня лично есть минимум 12 вариантов картины маслом «Один танцует» — конечно, несколько различных по цвету и размеру, горизонтального и вертикального формата, прозрачные и плотные, «с прописочкой» и «непрокрас» (митьковские искусствоведческие термины). Было бы демагогией заявить, что я ищу совершенства, подбираюсь к идеальному варианту. Это заказчик (или предполагаемый заказчик) хочет «Один танцует», и хочет не вариаций, а ту самую картину. Значит, хочет копию. (Так Митя, бессчетно повторяя шутку, словно бы продает пластмассовые штампованные изделия по цене золотого оригинала.)
Заказчик недоволен, если исполнитель представит копию, далекую от оригинала. Поклонники Гребенщикова явно не приветствуют его попытки на концертах по-разному, то так, то эдак, исполнить свою старую песню. Свистят: старый вариант подавай. Когда заказчиком является ребенок, которому рассказывают на ночь сказку, то один шаг в сторону от оригинала — побег. Мало того что ребенок каждый раз хочет одну и ту же сказку, он строгим, менторским тоном поправляет тебя, если ты заменил, адаптировал какой-нибудь сложный оборот.
Тут следует повторить обычную песню: а поскольку митьки у нас среднестатистический срез народа и если народ, если даже чистые сердцем дети малые любят только повторы...
Стоп, минуточку, чуть не забыл: а что я так некультурно, обывательски подхожу к вопросу, даже не упомянул про «вечное возвращение», любимую идею Ницше? Не упомянул про Энди Уорхола с его бесконечными сериями (кстати, просветление относительно того, как надо писать, Уорхол испытал, когда увидел сразу 18 авторских повторений «Беспокойных муз» Кирико). А философ Жиль Делез? Для него неустанно повторять — значит использовать пропущенные шансы. Теоретически обосновав повторение, Делез постоянно использует его на практике: «Сильная сторона мысли Делеза как раз в том, что он каждый раз находит возможность повторить уже повторенное» (В. Подорога).
Грамотный митек должен рассуждать так: на дворе у нас еще постмодернизм не кончился; и теория, и практика постмодернизма предпочитают инновациям повторение. «Серия перестает быть бедным родственником искусства», — провозгласил Умберто Эко. Безусловная оригинальность — понятие временное, сиюминутная мода, родившаяся в эпоху романтизма. Классическое искусство в значительной степени было серийным. Ведь Шекспир не стеснялся своих пьес — а они все без исключения являются римейками предшествующих историй. Так что если кто морду воротит от тысячекратного повторения чужой шутки — от бескультурья это, от незнания, что постмодернизм сделал повтора культ, — вот что ответит грамотный митек. Если он зачем-то хочет считаться постмодернистом...
На малогабаритной кухне Охапкина в 1978 году Митя непрерывно, без интермедий рассказывал анекдоты. Почти все они строились на повторах: например, Брежнев однообразно рассказывает иностранному гостю про одну картину Третьяковской галереи, вторую, третью («Картина большая. Много краски на нее ушло. Картина дорогая»), доходит до «Демона» Врубеля и понимает фамилию художника как указание на цену: «в рубль». Здесь в рассказе большие периоды повторов делают сбой на мелкие повторы-заедания: «Картина большая много краски на нее ушло, картина большая много краски на нее ушло, картина большая много краски на нее ушло (чем больше раз Митя повторял, тем смешнее)... но картина недорогая!» Этот анекдот, как и многие Митины, можно считать интеллектуальным: вот рассказчик и слушатель знают художника Врубеля, а Брежнев не знает.
Самый интеллектуальный анекдот, не про Брежнева, вспоминается примерно так.
Гамлет говорит Гильденстерну:
— Поиграй на дудочке.
— Принц, не буду.
— Слышь, ну поиграй!
— Да не буду я.
— Ну давай, поиграй, не ломайся.
— Принц, я не умею.
— Ну давай: ту-ру-ру-ру-ру! У-тю-тю-тю-тю!
— Не получится у меня.
— Слышь чего говорю-то: на дудочке мне сыграй!
— Не буду.
— Поиграй давай!
— Не, принц, не умею.
— На дудочке, говорю, поиграй!
— Принц, я не играю на дудочке. (Внезапно идиотское выклянчиванье, произносимое голосом дебильного ребенка, сменяется бешеным рыком.)
— А издеваться над людьми — можно?!
Анекдот возвышает слушателя, предполагая, что он не просто читал «Гамлета» или, по крайней мере, смотрел кинофильм, но способен на критическое осмысление полученной информации. Можно боготворить Шекспира — тем смешнее покажется анекдот. Да юмор — жестокое оружие, удобное для нечестного использования. Сродни терроризму.
Вот Лев Толстой известно как поднабрякнул отчего-то на Шекспира, сотни страниц потратил, пытаясь обидеть побольнее, поиздеваться над невнятностью, неуклюжестью многих мест в его пьесах, — а анекдот про дудочку достигает того же куда быстрее и обиднее, будучи неуязвим для встречной критики (а это и есть митьковский стиль).
Я просил Митю вновь и вновь рассказывать анекдоты свежим гостям; самому мне тоже было чем блеснуть — в те дни я написал цикл стихотворений «Полусухариныи сад» и теперь, заведенный свободой и предельностью Митиных интонаций, орал стихи этого цикла с таким надрывом, что Охапкин всерьез испугался. Охапкин, первый-второй ленинградский поэт того времени, раз в пять минут вбегал на кухню и дрожащим голосом спрашивал:
— Что? Что случилось? Отчего вы так ругаетесь?
— Стихи читаем, — пояснял я с оттенком превосходства: ты, мол, Охапкин, бубнишь там что-то торжественное, а вот послушай как надо.
Митя любит вспоминать такие вещи. И я люблю Мы с ним оба сентиментальны. Уже после моего ухода из «Митьков» встретились, вспоминали тот день.
Еще раз приведу это произведение, дуплетом:
1983 ГОД
О, как все было хорошо, Как хорошо все было...
Стихотворение, что почти уникально для Митиной поэзии, полностью самостоятельно. (Сходство с известной песней Верки Сердючки является чистым совпадением; или у Верки Сердючки «все будет хорошо»? Тогда и сходства нет.) Да я не иронизирую, мне действительно нравятся эти простые слова.
В начале восьмидесятых мы смиренно и с удовольствием работали в котельных, писали маленькие картины — ведь куда их девать, где хранить? Мастерских тогда не было, покупателей было совсем чуть-чуть. При этом Ленинград был полон прекрасными художниками (сколько бы их ни уезжало за границу, чтобы увянуть там). Арефьевский круг, школа Сидлина, стерлиговцы. Устюгов, Левитин, Россин, Геннадиев, Миша Иванов. Совсем молодые Сотников, Котельников, группа Флоренского — всех и не перечислишь, но Митя далеко не последний в списке, а на мой вкус, даже один из лучших (две его работы тех лет висят у меня на кухне; и в самую горькую минуту не приходило в голову их снять).