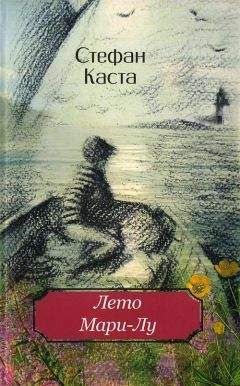По траве пробегает трясогузка, я бросаю ей несколько кусочков хлеба, но она в два приема перелетает к берегу.
Я слышу звук, похожий на сдавленный смех, и поднимаюсь. Потягиваюсь всем сонным телом и иду к автофургону, чтобы покормить Сив и Рут. Из деревянной бочки в пристройке я беру пару горстей зерна.
— Цыпа-цыпа-цыпа! — подзываю я их.
Сив и Рут выскакивают через заднюю дверь фургона. Они раздраженно кудахчут, и я бросаю им зерна через сетку, которой огорожен старый автомобиль. Птицы жадно набрасываются на корм.
— Ну, вы неслись сегодня? — спрашиваю я. Но у них нет времени на болтовню, поэтому я открываю сетчатую дверцу и захожу на птичий двор. Сив бросается назад и недоверчиво смотрит на меня, но видя, что Рут не обращает на меня внимания, тоже возвращается к своему запоздавшему завтраку. Я проверяю, достаточно ли воды в автоматической поилке.
Открываю переднюю дверь автофургона и, к своей радости, нахожу на пассажирском сиденье коричневое яйцо. Оно еще теплое, и я осторожно кладу его в карман.
— Славные девочки, — говорю я, осторожно закрываю дверь и пячусь прочь с птичьего двора.
«Первое яйцо», — запишу я в дневнике. Я иду в кладовку и кладу его в большую деревянную решетку для яиц. Одно яйцо как-то сиротливо смотрится в решетке на тридцать штук. Но Сив и Рут нужно время, чтобы привыкнуть ко мне. Всем нужно время. Особенно мне.
* * *
Я беру с собой альбом для эскизов и неторопливо иду в хвойный лес. Это настоящий зачарованный лес с елями, чей возраст достигает нескольких сотен лет, а стволы — толщиной в несколько обхватов. Еще там есть солнечные прогалины и сырые болота, кажущиеся белыми от «заячьих лапок». Я усаживаюсь на траву, скрестив ноги, и начинаю рисовать лютики, имеющие довольно забавный вид. Цветы выглядят потрепанными, неполными. У некоторых — пять желтых лепестков, а у других вообще нет. Мне известно, что такое впечатление незавершенности характерно для вида «лютик золотистый». Под рисунком я подписываю его латинское название: Ranunculus auricomus, 14 июня.
Позже на лесной лужайке я нахожу белые цветы. Они так густо устилают землю, что образуют узор, как на лоскутном коврике. Повсюду сияют белые цветочки с зелеными трехдольными листьями. Я с радостью узнаю в них лесную землянику. Подумать только, неужели она еще цветет?
Записываю в дневнике: «В лесу Йона Бауэра полно земляники».
Вечером я сижу у окна за большим столом и наблюдаю, как озеро успокаивается после очередного дня с его лодками и чайками. Когда темнеет, я выхожу из дома и закрываю заднюю дверь фургона-курятника. Ветер сменился на юго-восточный, Он немного усиливается и доносит до меня шепот елей из леса.
— Спокойной ночи, девочки, — кричу я Сив и Рут, но не получаю ответа.
Какое-то время я стою, притаившись, и слушаю тихое сопение, доносящееся из темноты курятника. Затем возвращаюсь в дом.
Закрываю дверь избушки и, немного подумав, запираю ее на ключ. Не спрашивайте почему. Просто я — городской житель, не привыкший к уединенной жизни.
* * *
Я просыпаюсь посреди ночи. Не знаю, долго ли я проспал. По крыше барабанит дождь, и сначала мне кажется, что это он разбудил меня. Но вскоре я слышу какой-то глухой звук. Он доносится снаружи. Откуда-то поблизости.
Я беспокоюсь о Сив и Рут, потому что в лесу живут лисы, но звук идет не с птичьего двора.
Некоторое время я лежу тихо и прислушиваюсь. Мое сердце снова колотится как лодочный мотор, быстро и глухо.
Я сажусь в кровати. Тут раздается: ба-бах! Я пытаюсь выглянуть в окно. Там сплошная темнота. Мне даже не удается разглядеть, где заканчивается земля и начинается озеро.
В это самое мгновение черную ночь раскалывает длинная белая трещина, словно кто-то расстегивает светящуюся «молнию» от небес до самой поверхности озера. В сильной вспышке света я вижу все, что недавно было скрыто мраком: лодку у мостков, пустынный песчаный берег, высокий силуэт леса, автофургон, переделанный под курятник.
Я задерживаю дыхание. Успеваю сосчитать до трех. И снова: ба-бах!
Я ложусь и съеживаюсь. С головой укрываюсь красным одеялом. В детстве я боялся грозы. Но теперь я уже не ребенок.
* * *
Когда я был маленьким, мы с папой и Бритт Бёрьессон жили в этом домике.
Мы чудесно проводили здесь лето, пока не появлялась эта Бритт. Целыми днями я бегал и купался, как и все обычные мальчишки. Я обожал купаться. «Если будешь так долго сидеть в воде, у тебя между пальцев вырастут перепонки», обычно говорила Бритт и хохотала во все горло.
Сначала я верил ее словам. Маленькие дети такие доверчивые. Однажды она крепко схватила меня за руку и потащила по мосткам к воде. Там она заставила меня прыгнуть, а сама кричала, чтобы я плыл к берегу, используя свои перепонки. Потом она спрыгнула с мостков на берег, стояла там и смеялась, пока я барахтался и кричал, что сейчас утону. Позже я понял, что Бритт ничего не смыслит в воспитании детей.
Наверное из-за того случая я так никогда и не научился плавать. У меня появилась своеобразная водобоязнь. Я стоял на мелкоте как столб. Ко мне можно было пришвартовать лодку.
Позже я увлекся рыбалкой. Нашел место, где крохотная речушка с коричневой болотной водой впадала в озеро. В устье этой речки я ловил темно-зеленых, почти черных окуней.
Бритт всегда удивлялась, откуда я их беру. «Это очень далеко. За Норденом. На самом дальнем мысе», — объяснял я. Для меня это было где-то почти на краю света. Ничего дальше я не мог себе представить. Не знаю, бывала ли она когда-нибудь там.
По вечерам я лежал в постели и слушал, как надвигается гроза, а Бритт потягивала игристое вино и смеялась свои противным смехом, похожим на крик чайки.
Я думал: «Вот начинается гроза». Но молний долго не было. Лишь грохотало и грохотало.
Никогда не думал, что смех может звучать неприятно. Что он может портить настроение. Говорят, что глаза — зеркало души. Возможно, и смех тоже. Но я понял это не раньше, чем мы с Бритт Бёрьессон свели счеты.
* * *
Утром небо чистое, словно вымытое. Оно сияет бело-голубыми красками. Я проспал долго, слишком долго, но винил во всем ночное ненастье.
Я ставлю на плиту кастрюлю с водой, выхожу и мочусь на цветы иван-чая, а после бреду к автофургону.
Похоже, Сив и Рут тоже провели беспокойную ночь. Я подманиваю их, и они нехотя, покачиваясь, идут ко мне, останавливаются у задней двери, но не соскакивают вниз, пока я не бросаю им две горсти зерна.
Я не нахожу ни единого яйца. Ясно, что куры не в настроении после такой ночи.
Вернувшись в дом, снимаю с плиты кастрюльку и бросаю в нее чайный пакетик. Отрезаю два куска батона и намазываю их икрой. Наливаю чай в чашку и замечаю, что вода ледяная. Ничего не понимаю. Брызгаю несколько капель на конфорку электроплиты. Она тоже холодная. Щелкаю выключателем лампы — не горит. Электричество отключили. Интересно, у нас вылетели пробки или причина в щитке на другой стороне бухты?
«Температура +13 °C, небо ясное, ветер северо-восточный, умеренный. После ночной грозы нет электричества», — пишу я.
* * *
Около полудня погода налаживается, и, когда я сижу на мостках, сквозь тучи внезапно пробивается солнце. Я снимаю свитер и позволяю своему бледному телу погреться.
Мне нравится здесь сидеть. Мостки построены на крупных угловатых каменных глыбах и мощных сваях, вбитых в дно. Сверху прибиты широкие половые доски, черные от смолы и белые от помета чаек. Здесь мог бы пришвартоваться даже теплоход, курсирующий по каналам. Бывало, папа шутил по этому поводу: «Однажды утром к нам причалит „Диана“[4] или „Йуно“». Но кроме одиноких лодок дачников, ищущих причал в неожиданное ненастье, здесь не встретишь суденышка крупнее, чем черная шлюпка Бритт.
Прищурившись, я смотрю на озеро и быстро делаю набросок. Мягкими карандашными линиями обозначаю бухту, глубоко врезающуюся в сушу и окруженную двумя длинными зелеными рукавами. На одном из них сижу я. Это мой полуостров. Здесь лишь древний лес, прогалины и болото. И здесь стоит наша избушка.
Другой полуостров — напротив — более открытый и светлый. Там расположен хутор Норден, и пшеничные поля, словно светло-желтые одеяла для пикника, виднеются между извилистыми грунтовыми дорогами.
Я перевожу взгляд на озеро и пытаюсь разглядеть контуры небольших островков, словно ставших на якорь кораблей. Ближайший островок по форме напоминает кита. Это Юнгфрун. Он совершенно гол — лишь камни, скалы и гора; там гнездятся тысячи чаек.
Другой островок похож на каравай. Это Фьюк. Конечно же, есть еще множество других островков, но их отсюда не видно. Своими концами они наползают друг на друга. В народе говорят, что никогда не знаешь, где в следующий раз окажется этот Фьюк. Иногда он, словно мираж, маячит на горизонте, поднимаясь на несколько метров над водой.