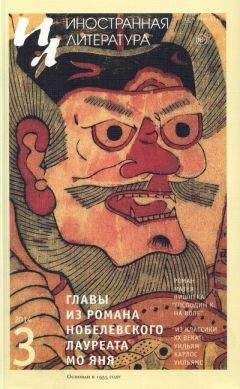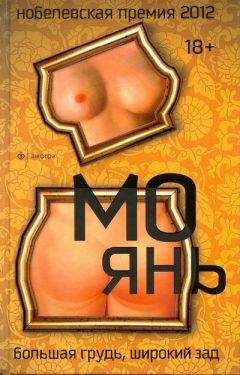— Нет на мне вины! — возопил я, разбрызгивая вокруг капли вонючего масла, а в голове крутилось: «Тридцать лет ты прожил в мире людей, Симэнь Нао, любил трудиться, был рачительным хозяином, старался для общего блага, чинил мосты, устраивал дороги, добрых дел совершил немало. Ты жертвовал на обновление образов святых в каждом храме дунбэйского [7] Гаоми, и все бедняки в округе вкусили твоей благотворительной еды. На каждом зернышке в твоем амбаре капли твоего пота, на каждом медяке в твоем сундуке — твоя кровь. Твое богатство добыто трудом, ты стал хозяином благодаря своему уму. Ты был уверен в своих силах и за всю жизнь не совершил ничего постыдного. Но — тут мой внутренний голос сорвался на пронзительный крик — такого доброго и порядочного человека, такого честного и прямодушного, такого замечательного схомутали пятилепестковым узилищем[8], вытолкали на мост и расстреляли! Стреляли всего с половины чи[9], из допотопного ружья, начиненного порохом на полтыквы-горлянки[10] и дробью на полчашки. Прогремел выстрел — и половина моей головы превратилась в кровавое месиво, а сероватые голыши на мосту и под ним окрасились кровью…»
— Нет моей вины, оговор это все! Прошу дозволить вернуться, чтобы спросить этих людей прямо в лицо: в чем я все же провинился перед ними?
Когда я выпаливал все это, как из пулемета, лоснящееся лицо Ло-вана беспрестанно менялось. Паньгуани, стоявшие с обеих сторон, отводили от него глаза, но и со мной боялись встретиться взглядом. Я понимал: им абсолютно ясно, что я не виновен; они с самого начала прекрасно знали, что перед ними душа безвинно погибшего, но по неведомым мне причинам делают вид, что ничего не понимают. Я продолжал громко взывать, мои слова бесконечно повторялись, словно перерождения в колесе бытия. Ло-ван вполголоса посовещался с паньгуанями и стукнул своей колотушкой, подобно судье, оглашающему приговор:
— Довольно, Симэнь Нао, мы поняли, что на тебя возвели напраслину, В мире столько людей заслуживает смерти, но вот не умирают. А те, кому бы жить да жить, уходят в мир иной. Но нам такого положения дел изменить не дано. И все же в виде исключения и из милосердия нашего отпускаем тебя в мир живых.
Это неожиданное радостное известие обрушилось, будто тяжеленный мельничный жернов, и я чуть не рассыпался на мелкие кусочки. А владыка Ада швырнул наземь алый треугольник линпай[11] и торопливо распорядился:
— А ну, Бычья Голова и Лошадиная Морда, верните-ка его обратно!
Взмахнув рукавами, он покинул зал, толпа паньгуаней потянулась за ним, и от потоков воздуха, которые они поднимали широкими рукавами, заколебалось пламя свечей. С разных концов зала ко мне приблизились два адских служителя в черных одеяниях, перехваченных широкими оранжево-красными поясами. Один нагнулся, поднял линпай и заткнул себе за пояс, другой схватил меня за руку, чтобы поднять на ноги. От раздавшегося хруста показалось, что кости вот-вот рассыплются, и я завопил что есть мочи. Демон, засунувший за пояс линпай, дернул напарника за рукав и тоном многоопытного старика, который поучает зеленого юнца, сказал:
— У тебя, мать-перемать, водянка в мозгах, что ли? Или черный гриф глаза выклевал? Не видишь, что он зажарен до хруста как тяньцзиньский хворост шибацзе[12]?
Молодой демон закатил глаза в полной растерянности, пока тот, что постарше, не прикрикнул:
— Ну что застыл? Ослиную кровь неси!
Молодой хлопнул себя по лбу, и лицо его просветлело, словно он прозрел. Он бросился из зала и очень скоро вернулся с заляпанным кровью ведром, видать, тяжелым, потому что тащил он его, еле переставляя ноги и изогнувшись в поясе — казалось, вот-вот свалится.
Ведро тяжело хлопнулось рядом, и меня тряхнуло. Потом окатило жаркой волной тошнотворной вони, которая, казалось, еще хранила тепло ослиного тела. В мозгу мелькнула туша забитого осла и тут же исчезла. Демон с линпаем достал кисть из свиной щетины, окунул ее в густую темно-красную кровь и мазнул меня по голове. От странного ощущения — боль, онемение и покалывание будто тысячами иголок — я невольно взвыл. До слуха донеслось негромкое потрескивание, я ощутил, как кровь смачивает мою прожаренную плоть, вызвав в памяти стук капель хлынувшего наконец-то на иссохшую землю долгожданного дождя. Меня охватило смятение и целый сонм переживаний. Демон орудовал кистью быстро и споро, как искусный маляр, и вскоре я был в ослиной крови с головы до ног. Под конец он поднял ведро и вылил на меня все, что там оставалось. Я почувствовал, что жизнь снова закипела во мне. Вернулись силы и мужество; на ноги я встал уже без помощи служителей.
Хоть этих демонов и звали Бычья Голова и Лошадиная Морда, они ничуть не походили на те фигуры, которые мы привыкли видеть на картинках, изображающих преисподнюю, — бычьи головы и лошадиные морды на человеческом теле. Обличье у них было человеческое, от людей они отличались лишь тем, что кожа у них отливала ослепительной голубизной, словно обработанная каким-то волшебным колером. Такую благородную голубизну я редко встречал в мире людей — не бывает ни ткани такого цвета, ни деревьев с подобной листвой, хотя вот цветы есть, маленькие такие, они растут на болотах у нас в Гаоми: утром раскрываются, а к вечеру лепестки вянут и осыпаются.
Эти долговязые синеликие демоны подхватили меня с двух сторон, и мы зашагали по мрачному тоннелю, которому, казалось, не будет конца. Через каждые несколько чжанов[13]на стенах по ту и другую сторону теперь попадались бра причудливой формы, похожие на кораллы, с которых свисали блюдечки светильников, заправленных соевым маслом. Запах горелого масла становился то насыщеннее, то слабее, и от него голова то затуманивалась, то прояснялась. В тусклом свете можно было видеть множество огромных летучих мышей, висевших под сводами тоннеля. Их глаза поблескивали в полумраке, а на голову мне то и дело падали зернышки вонючего помета.
Дойдя до конца тоннеля, мы вышли на высокий помост, где седовласая старуха, протянув к грязному железному котлу белую, пухлую ручку с гладкой кожей, которая никак не соответствовала ее возрасту, зачерпнула черной деревянной ложкой вонючую жидкость тоже черного цвета и налила в большую алую глазурованную чашку. Принявший чашку демон поднес ее к моему лицу и недобро усмехнулся:
— Пей. Выпьешь, и оставят тебя все горести, тревоги и озлобление твое.
Но я отшвырнул чашку и заявил:
— Ну уж нет, пусть все горести, тревоги и озлобление остаются в моем сердце, иначе возвращение в мир людей потеряет всякий смысл.
И с гордым видом спустился с помоста, доски, из которых он был сколочен, подрагивали под моей поступью. Демоны, выкрикивая мое имя, бросились за мной.
В следующий миг мы уже шагали по земле дунбэйского Гаоми. Тут мне знакомы каждая горка и речушка, каждое деревце и каждая травинка. Новостью оказались вбитые в землю белые деревянные колышки, на которых черной тушью были выведены имена — одни знакомые, другие нет. Таких колышков было полно и на моих плодородных полях. Землю раздали безземельным беднякам, и моя, конечно, не стала исключением. В династийных историях полно таких примеров, но об этом перераспределении земли я узнал только сейчас. Земельную реформу в мире людей провели, пока я твердил о своей невиновности в преисподней. Поделили все большие земельные угодья, но расстреливать-то меня зачем нужно было?!
Демоны, похоже, опасались, что я сбегу, и конвоировали меня, крепко ухватив ледяными руками, а вернее, когтями за предплечья с обеих сторон. Ярко сияло солнце, воздух был чист и свеж, в небе щебетали птицы, по земле прыгали кролики, глаза резало от белизны снега, еще оставшегося по краям канав и берегам речушек. Я глянул на сопровождавших меня демонов с голубыми лицами, и мне вдруг пришло в голову, что они смахивают на загримированных для выступления актеров, только вот в мире людей нет таких красок и не достичь столь благородной голубизны.
Дорога шла по берегу реки. Мы миновали несколько деревенек, навстречу попалось немало знакомых, но всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы поздороваться, демоны привычным движением сжимали мне горло так, что я не мог и пикнуть. Крайне недовольный этим, я лягал их, но они не проронили ни звука, будто ноги у них ничего не чувствовали. Я пытался боднуть их головой, но лица у них были как резиновые. Руки с моего горла они снимали лишь тогда, когда вокруг не было ни души.
Подняв облако пыли, мимо промчалась коляска на резиновых шинах. Пахнуло лошадиным потом, который показался знакомым. Возница — его звали Ма Вэньдоу, — поигрывая плетью, восседал на облучке в куртке из белой овчины. За воротник у него были заткнуты связанные вместе длинная трубка и кисет. Кисет болтался туда-сюда, как вывеска на винной лавке. Коляска была моя, лошадь тоже, но возница моим батраком не был. Я хотел было броситься вслед, чтобы выяснить, в чем дело, но демоны опутали меня накрепко, как лианы, — не вырвешься. Этот Ма Вэньдоу наверняка заметил меня, наверняка слышал, как я кряхтел, изо всех сил пытаясь вырваться, не говорю уж об исходившем от меня странном запахе — такой не встретишь в мире людей. Но он пронесся мимо во весь опор, будто спасаясь от какой-то беды. Потом встретилась группа людей на ходулях. Они представляли историю о Тансэне[14] и его путешествии за буддийскими сутрами. Все они, в том числе и изображавшие Сунь Укуна и Чжу Бацзе[15], были моими односельчанами. По лозунгам на плакатах, которые они несли, и из их разговоров я понял, что был первый день тысяча девятьсот пятидесятого года.