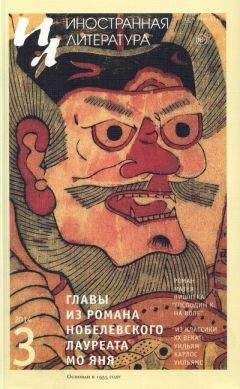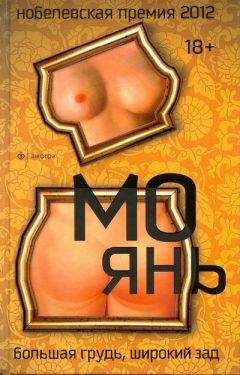Мы почти достигли маленького каменного мостика на краю нашей деревни, и тут меня вдруг охватила безотчетная тревога. Еще немного — и я увижу залитые моей кровью, поменявшие цвет голыши под мостом. От налипших на них обрывков ткани и грязных комков волос исходил густой смрад. Под щербатым пролетом моста собралась троица одичавших собак. Две разлеглись, а одна стояла. Две черные, одна рыжая. Шерсть блестит, языки красные, зубы белые, глаза горят…
Об этом мостике упоминает Мо Янь в своих «Записках о желчном пузыре». Он пишет об этих собаках — они наелись мертвечины и сбесились. Он пишет также о почтительном сыне, который вырезал желчный пузырь у только что расстрелянного и отнес домой, чтобы вылечить глаза матери. О том, что используют медвежий желчный пузырь, я слышал не раз, но чтобы человеческий — не слыхивал. Еще одна выдумка этого сумасброда. Пишет в своих рассказах чушь всякую, верить этому никак нельзя.
Пока мы шли от мостика до ворот моего дома, я снова вспомнил, как меня расстреливали: руки связаны за спиной крест-накрест, за воротник заткнута табличка приговоренного к смерти. Шел двадцать третий день последнего лунного месяца, до Нового года оставалось всего семь дней. Дул пронизывающий холодный ветер, все небо застилали багровые тучи. За шиворот сыпались горсти ледяной крупы. Чуть поодаль за мной, громко рыдая, следовала моя жена, урожденная Бай, а наложниц Инчунь и Цюсян что-то не видать. Инчунь ждала ребенка и вскорости должна была разрешиться от бремени, поэтому ей было простительно. А вот то, что не пришла попрощаться Цюсян, не беременная и молодая, сильно меня расстроило. Уже стоя на мосту, я повернулся к стоявшим всего в нескольких чи командиру ополченцев Хуан Туну и его бойцам: «Мы ведь односельчане, почтенные, и между нами не было вражды, ни прежде, ни теперь. Скажите, если обидел чем, стоит ли так поступать?» Хуан Тун зыркнул на меня и тут же отвел взгляд. Золотистые зрачки его посверкивали, как звезды на небе. Эх, Хуан Тун, Хуан Тун[16], подходящее же имечко выбрали тебе родители! «Поменьше бы трепал языком! — бросил он. — Политика есть политика!» — «Если вы меня убить собрались, почтенные, то хоть объясните, какой такой закон я нарушил?» — не сдавался я. «Вот у владыки преисподней все и выяснишь», — сказал он и наставил на меня свое ружье. Дуло оказалось в каких-то полчи от моей головы. Потом я почувствовал, что голова куда-то улетает, перед глазами рассыпались огненные искры. Будто издалека донесся грохот, и в воздухе повис запах пороха…
Ворота моего дома были приоткрыты, и в створку я увидел во дворе множество людей. Неужели они знали, что я вернусь?
— Спасибо, братцы, что проводили! — обратился я к своим спутникам.
На их лицах играли хитрые улыбочки, и не успел я поразмыслить, что эти улыбочки означают, как они схватили меня за руки и швырнули вперед. В глазах потемнело, казалось, я тону. И тут прозвенел радостный человеческий возглас:
— Родился!
Разлепив глаза, я увидел, что весь в какой-то липкой жидкости и лежу между ног ослицы. Силы небесные! Кто бы мог подумать, что я, Симэнь Нао, воспитанный и образованный, достойный деревенский шэньши[17], превращусь в осленка с белыми копытами и нежными губами!
Добродетельный Симэнь Нао спасает Лань Ляня. Бай Инчунь окружает заботой осиротевшего осленка
У зада ослицы стоял с сияющим лицом не кто иной, как мой батрак Лань Лянь. У меня в памяти он еще оставался худосочным юношей, а тут гляди-ка! Каких-то два года прошло после моей смерти, а он уже вымахал в дюжего молодца.
Лань Лянь был еще ребенком, когда я подобрал его в снегу перед храмом Гуань-ди[18]. Он был закутан в какую-то дерюгу, босой, закоченевший, лицо багрово-синее от холода, на голове колтун.
Отец мой тогда только что покинул этот мир, а мать еще была жива-здорова. Отец передал мне латунный ключ от сундука из камфорного дерева, в котором хранились купчие на шестьдесят му[19] нашей земли, а также золото, серебро и другие семейные ценности.
Мне в то время только что исполнилось двадцать четыре года, и я недавно взял в жены вторую дочь из семьи Бай Ляньюань, самой богатой в Баймачжэне. Детское имя[20] моей жены было Синъэр — Абрикос, взрослого не было, и, когда она пришла в наш дом, ее стали называть просто Симэнь Бай. Как дочь из богатой семьи, урожденная Бай была девица грамотная и воспитанная; хрупкая, грудки, словно груши, и ниже пояса изящная, да и в постельных делах у нас с ней сладилось. Все бы хорошо, да вот детей у нас пока не было.
Я тогда был, как говорится, молод годами, да успешен делами. Урожай из года в год собирали обильный, арендаторы платили за землю без задержек, амбары и хранилища от зерна просто ломились. Плодились живность и скотина, наша черная кобыла аж двух жеребят принесла. Прямо чудо какое-то! Рассказывать о таком рассказывают, но на самом деле мало кто видал такое. Желающие посмотреть на нашу двойню валом валили, льстивые восхваления не умолкали. Наша семья угощала односельчан жасминовым чаем и сигаретами. Одну пачку стащил деревенский шалопай Хуан Тун, и его привели ко мне за ухо. У этого желтокожего негодника с соломенными волосами желтоватые глазки так и стреляли по сторонам, будто одни гнусные проделки на уме. Я махнул рукой на то, что он стащил пачку, и отпустил с миром, да еще чаю для отца с собой дал. Отец его, Хуан Тяньфа, человек честный и нрава доброго, мастер вкусный доуфу[21] готовить, был у меня одним из арендаторов и обрабатывал пять му плодородной земли у реки. Кто бы мог подумать, что у него такой никчемный сынок вырастет! Через какое-то время Хуан Тяньфа прислал пару корзин соленого доуфу, такого плотного, что хоть вешай на крюк безмена, да еще две корзины извинений наговорил. А я велел жене поднести ему два чи зеленой диагонали, чтобы сшил себе пару тапок на Новый год. Эх, Хуан Тун, Хуан Тун! Столько лет мы с твоим батюшкой жили душа в душу, а ты меня из своей берданы порешил. Понятное дело, тебе приказали, но что тебе стоило в грудь пальнуть, чтобы голова целой осталась! Скотина ты неблагодарная!
Я, Симэнь Нао, человек благороднейший и щедрейший, все меня уважали и благоговели передо мной. Время, когда я принял на себя дела, было лихое, приходилось приспосабливаться и к партизанам, и к «крысам желтопузым»[22], тем не менее за несколько лет мое хозяйство выросло и поднялось в цене, я приобрел еще сто му прекрасной земли, скотины прибавилось — с четырех до восьми голов, появилась новая коляска на резиновом ходу, батраков уже стало не двое, а четверо, служанок — не одна, а две, да еще добавились две пожилые женщины, которые стряпали для нас. Вот так обстояли дела, когда я обнаружил перед храмом и принес домой замерзшего и еле дышавшего Лань Ляня. В то утро я поднялся рано и отправился собирать навоз. Вы не поверите, но я, хоть и был самым зажиточным хозяином в дунбэйском Гаоми, трудился не покладая рук. В третьем месяце за сохой ходил, в четвертом сеял, в пятом пшеницу жал, в шестом сажал бахчевые, в седьмом обрабатывал мотыгой бобы, в восьмом убирал коноплю, в девятом — зерно, а в десятом перепахивал поля. Даже в самую холодину двенадцатого месяца я не валялся на теплой лежанке, а вставал с рассветом, взваливал на плечо корзину и шел собирать собачье дерьмо. В деревне еще в шутку говорили, что вставал я слишком рано и в темноте вместо собачьих катышков набирал камешков. Это чушь, конечно, нюх у меня отменный, собачье дерьмо издалека чую. Если к собачьим делам относиться безразлично, доброго хозяина из тебя не выйдет.
В тот день был сильный снегопад, и все вокруг — дома, деревья, дорога — покрыла сплошная белая пелена. Собаки попрятались, и подбирать было нечего. Но я все равно вышел прогуляться по снежку. Воздух чист и свеж, ветерок задувает, а вокруг в сумраке столько всего загадочного и странного! Когда еще увидишь такое, как не в этот ранний час? Я сворачивал с одной улочки на другую, забрался на окружающий деревню земляной вал, чтобы увидеть, как алеет белая полоска горизонта на востоке, как играют сполохи зари, за которыми красным колесом выкатывается солнечный диск, и объять взглядом просторы, где, отражаясь от снега, багровое зарево превращает все вокруг в сказочный хрустальный мир.
Когда я обнаружил этого ребенка перед храмом Гуань-ди, его почти запорошило снегом. Сначала я подумал, что он мертв, и уже решил потратиться на гробик из тонких досок, чтобы похоронить его, не оставлять на поживу одичавшим псам. За год до того перед одним местным храмом замерз босой бродяга. Посинел весь, а штаны торчком — все вокруг просто покатывались со смеху. Об этом случае писал твой сумасбродный приятель Мо Янь в рассказе «Мертвец лежит, уд вверх глядит». Этого подзаборника с торчащим, как копье, инструментом похоронили на мои деньги — зарыли на старом кладбище к западу от деревни. Воздействие таких добрых дел огромно, это посильнее, чем ставить памятники и составлять жизнеописания. Ну так вот, опустил я корзину на землю, потормошил ребятенка, пощупал грудь — оказалось, теплая, значит, живой. Скинул свой стеганый халат, завернул мальца и, обхватив закоченевшее тельце, зашагал навстречу солнцу к дому. К этому времени свет зари уже залил небо и землю, из ворот выходили люди, чтобы убрать снег, и многие видели мой, Симэнь Нао, добродетельный поступок. Только за одно это вы не должны были меня расстреливать! И ты, владыка преисподней, лишь поэтому не должен был возвращать меня в мир сей в образе осла! Как говорится, спасти жизнь человеку — куда важнее, чем возвести семиярусную пагоду, а я, Симэнь Нао, спас человеческую жизнь, и это сущая правда. Да разве только одну?! Как-то весной в неурожайный год я продал по самой низкой цене двадцать даней[23] гаоляна, освободил крестьян от арендной платы и тем самым многим спас жизнь! Сам же я пал до каких же пределов скорби! О небо и земля, о люди и небожители, где справедливость? Где честь и совесть? Никогда не смирюсь, у меня все это просто в голове не укладывается!