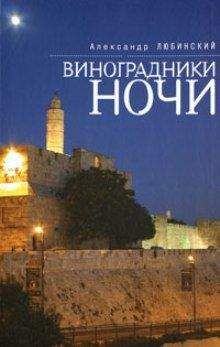Я собираю ягоды в большую жестяную кружку с прогнутым дном. Она стоит на скамейке возле плиты, рядом с ведром, которое должно быть все время полно водой, и потому по нескольку раз в день я беру ведро, ставлю под гнутую толстую трубу и, ухватившись обеими руками за ржавый журавль колодца, с силой толкаю его вниз. Поначалу труба сипит, в глубине что-то чавкает, полнится, наливается силой, и вот уже журавль тяжелеет; навалившись всем телом, я опускаю его, из трубы в днище ведра бьет струя, а потом еще и еще, капли летят в стороны, падают на деревянные доски колодца — они всегда, даже в самую жару, прохладны, потому что холодом и влагой тянет из глубины
Малину я собираю для нее, ведь она перемещается с трудом даже с веранды на кухню. Добравшись до конца забора, вдоль которого растут кусты, бегу к веранде, где она уже сидит и ждет, а потом ест — медленно, с разбором, выбирает ягоды посочней, взгляд мутнеет, полные губы, обычно синевато-венозные, наливаются темно-бордовой кровью…
В привычном однообразном шуме улицы я различаю резкие обертоны. Вздрагиваю, разлепляю веки. Двое остановились на улице возле ворот и, громко переговариваясь, дергают за ручку. Вскакиваю, открываю, задаю положенные вопросы, проверяю у дамы — сумочку, у мужчины — рюкзак. Закрываю ворота, снова сажусь на стул. Душно. Над городом зависло темно-желтое марево, но ветви клена начинают уже перешептываться, еще немного, и они дружно возропщут, небосвод потемнеет, ветер погонит по улице песчаную пыль, на каменных плитах двора закружат опавшие, обожженные жарой лепестки — они падают с кустов, высаженных вдоль забора, покрытых фиолетовыми крупными цветами. Каждое утро Махмуд собирает их в совок вместе с сигаретными окурками, грязными салфетками, фантиками — ошметками вчерашнего вечера, но они снова устилают камень двора, и Махмуд, устало бормоча под нос арабские ругательства, все подбирает и подбирает их.
Да, веранда, малина… Темная туча, закрывшая солнце, первые тяжелые капли дождя. Она подымается, спускается по рассохшимся ступеням в сад, снимает с веревки, протянутой между деревьев, трепещущее, белое, рвущееся из рук. Она совсем непохожа на женщину с китайским зонтиком, которая однажды бесшумно прошла мимо меня. И все же, эти крупные черты лица, очерк полного тела… Словно детская раскраска, где слабыми линиями намечен контур, и ты сам должен придать зрячесть глазам, нарисовав два темных обода со светлыми точками посередине, не забыть о красивых длинных ресницах, они у меня — от нее, и губы. Та, другая, двигалась легко, она ведь не заболела тромбофлебитом после мучительных родов, не состарилась раньше времени, у нее была другая жизнь.
Стенли открывает дверь и двумя руками дает отмашку, мол, хватит, все, отпускаю тебя на свободу. И правда, сегодня днем было мало посетителей. Лена за стеклом веранды тосковала, полировала до блеска бокалы, переставляла и поправляла тарелки на столах, и даже принялась от скуки писать кому-то письмо. Беру рюкзак, открываю ворота на улицу — теперь они могут быть раскрыты — выхожу на Невиим, по которой в обе стороны неуклонно и непрерывно, как муравьи по разогретому пористому камню, движутся арабы: группки молодых нахальных подростков, тяжеловесные матроны с мужьями и детьми… Три тоненькие девушки с еще не покрытыми волосами выходят из проходной института и тяжелый взгляд лысого охранника останавливается на них… Кончилась интифада, но вражда не утихла, в любой момент огонь, полыхающий где-то в темных недрах, может вырваться наружу — так тянет дымом с торфяника, то тут, то там на поверхность вырывается пламя, взметнется вверх — и снова скроется, темная жижа набухает, чавкает, пузырится, перебарывает огонь, но он все тут, надрывно и глухо, как ночной голос муэдзина, гудит в глубине.
Но передышку надо же использовать, и все они бросились, истосковавшись, в еврейский Иерусалим, где уже не стоят на каждом углу безжалостные солдаты пограничной охраны, где можно почти свободно, с вызывающим смехом и громким разговором зайти в любой магазин, и продавщица не отшатнется в испуге как раньше, потому что вот здесь на Яффо, в магазине был взрыв, вместе с террористкой погибли еще две женщины — продавщица и покупательница, а потом в развороченном черном окне кто-то выставил бело-голубой флаг, и здесь, на углу Яффо и Кинг-Джорд, тоже был взрыв, я его видел по телевизору, а на противоположной стороне улицы смертник-боевик изрешетил пулями автобусную остановку, убив женщину и двух стариков, они ждали автобус, чтобы доехать до рынка, он совсем рядом, но лучше доехать, силы сэкономишь, все равно потратился, купил месячный билет.
Сажусь на каменную скамейку — их много на Бен-Иегуда — достаю купленную на днях книгу. Есть два часа до вечерней смены. Рядом садятся женщина и мужчина. Женщина — в шортах, с венозными белыми ногами. Она курит и говорит по-немецки, да, это немецкий, все никак не могу привыкнуть — уже не привыкну, память детства, все эти фильмы про войну с тревожным, страшным, каркающим звуком — к их речи. Но ведь и Герда говорила по-немецки, когда приехала более полувека назад в Иерусалим. Каждый день, торопясь по Невиим, я прохожу мимо распахнутых железных ворот и вижу в тенистой зеленой глубине стену ее дома. Когда она говорила по-немецки, люди на улице набрасывались на нее чуть ли не с кулаками. Герда не сердилась на них — она их понимала. Она не могла им рассказать, потому что не знала их языка, что бежала из Германии, оставив там старика-отца и брата с сестрой, они собирались вслед за ней, но успеют ли? Герды нет, она умерла.
Женщина подымается, бросает шекель в кружку, она стоит на тротуаре возле высокого тощего музыканта. Он едва помещается на складном стуле, но легко, без видимых усилий творит с помощью баяна попурри из одесского блата, ивритских песен, и вдруг — после небольшой паузы — последний корабль Севастополь покинул, а потом — в лесу прифронтовом, и кружатся пары по Бен-Иегуда, женщины в легких, разлетающихся платьях, мужчины — в неуклюжих пиджаках кителях и гимнастерках без погон, только едва заметные беловатые полосы там, где были погоны, словно от въевшейся соли. А она спешит, спешит вверх по Бен-Иегуда в своем шелковом платье, с раскрытым китайским зонтом. Солнце уже не печет, но еще предзакатно пылает улица. Она идет слегка откинув красивую голову, с волосами, забранными в высокий пучок, ей навстречу устремляется тоненький мальчик в серо-зеленом британском мундире, бережно целует протянутую руку, и они исчезают в проулке, где в дымной полутьме кружатся между столиков пары, и надрывно, протяжно, томно воет граммофон.
На Иерусалим опускается прохладная ночь, словно бережная рука гладит его раскаленную голову. Зажигаются фонари, толпы подростков — сколько их расплодилось за эти два-три года! — заполняют Бен-Иегуда и прилегающие к ней проулки, и патрульные пограничной охраны с молчаливой завистью смотрят на эту катящуюся по Бен-Иегуда оглушительно орущую толпу. Пора возвращаться к моим воротам. Я перехожу Яффо, сворачиваю на улицу рава Кука, которая подымается вверх к Невиим, и оглядываясь, вижу их — они тоже возвращаются: он осторожно взял ее за руку, и я поспешно отворачиваюсь, чтобы им не помешать. Открываю ворота, захожу во двор, но они не заходят вслед за мной, их тени, отбрасываемые огромной круглой луной, отчетливо видны на белом камне забора. В Старом городе слышны резкие хлопки — наверное, салют над Бассейном султана в честь фестиваля, они пошли сейчас чередой, тени вздрагивают, их контуры колеблются — замирают — сливаются в долгом поцелуе. У Стенли еще нет посетителей, но уже пылает в глубине зала очаг. Из боковой двери выходит толстый Али, кричит «Шалом, шомер», вытирает пот со лба, торопливо курит. А она ведет своего офицера в дом, ведь я предусмотрительно оставил ворота открытыми, и снова, как в первый раз — мгновенный пряный запах духов. Незамеченные, они проскальзывают в боковую дверь мимо Али, и вот уже наверху рядом с кабинетом Стенли за полуистлевшей ставней вспыхивает тусклый свет. Он гаснет не сразу, и какой-нибудь больной, которому не спится за окном верхнего этажа больницы Ротшильда, может видеть то, что происходит в комнате. Снова доносится резкий хлопок, я рад, что они — в безопасности, и любят друг друга в эту тревожную ночь лета сорок… года.
Мина различила шорох, перестук шагов на лестнице, глухой мужской голос… У сестры — снова ночной гость. Зажгла ночник, спустила ноги на пол. Круг света выхватил изголовье железной кровати, тумбочку, стакан с недопитой водой, мятый платок. Облатка таблеток лежала рядом со стаканом. Мина раскрыла ее, двумя пальцами вытянула таблетку. осторожно положила на язык, подумала, передвинула поглубже, взяла стакан, заглотнула воду. Не спится, таблетка должна помочь.
Она сидела на краю постели, прислушиваясь. Но было тихо — так настороженно, нестерпимо тихо, что Мина вдруг поняла: в доме никто не спит. Ни Залман, ни Христя в своей каморке в подвале, ни те двое. И Залман не выдержит, спустится к Христе. Потушив свет. Мина выглянула в коридор… Да, вот он появился в дальнем его конце, выскользнул из кабинета в своей ночной пижаме. Его контур отчетливо виден в свете луны, на фоне окна. Остановился, взглянул в сторону спальни Мины — она отпрянула. Казалось, он смотрит на нее в упор! Что за глупости, Залман ничего не видит, она ведь потушила свет. На лестнице — шмяк шлепанцев о камень, и внизу, в темном нутре дома глухо стучит дверь…