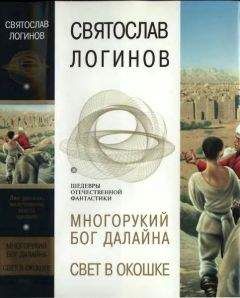Но скоро он привык. Некая угроза в его адрес потихоньку растворилась в необъятном чудесном многообразии жизни, которую никто не контролировал, оказывается. Привык и даже не помнил, как точно называется этот пионерский лагерь: «Сокол», «Орленок? Или еще как-то в том же духе. Может, «Воробей»?
Его тело унесло из этого лета в долгую осень, в долгую зиму этого года много всякой зеленой всячины, и жить в городской квартире, пить чаечек-кофеечек, а вечерами читать умные книжонки обещалось легко и радостно. Конечно же, во всем было виновато это причудливое лето: ибо этим летом он ощутимо запамятовал человеческую речь. В отношении тех редких людей, с которыми он общался, АП теперь вполне обходился протяжным, красочным рядом звуков: эо… оу… элиллоу… лоу…
Этого не сообщали хлопотавшие об определении Александра Петровича люди, – потому как этого не знали.
Как, впрочем, и про то не сообщали, что часов у него на руках нету и времени, значит, не наблюдает. Не сообщали, что все лето на траве лежал в пределах собственной дачи, разбросав чуткие запястья; слушая восхождение холодных подземных вод по стеблям трав к солнцу, к свету.
Лежал и слышал волосами приливы неба, которое никак не называлось, ни небо Лаптевых, ни Баренцево небо, а просто небо, и если крикнуть «небо-о-о-о!» – то «о» уйдет в него.
…Этого по телефону не сообщали, да и вообще пугались. А вдруг он, такой нестарательный в жизни, еще и диплом утерял. Там, на даче своей чертовой, немощной, – под горн и барабаны.
В траве, естественно, утерял, – где же еще?
Упало, выпало, долго, будто в невесомости, освобожденное от земных связей, уже ничье, – падало. И даже некому было посмотреть на растеряшу АП, все как сквозь землю провалились. Только что были здесь вроде бы: лук-редьку выращивали на грядках, уткнув в небо задницы человечества. И толстые, и тонкие, и кривые, и крепкие, как умывальники, и красные, и желтые, и в полосочку, и в горошек, и в цветочек.
И теперь сквозь дерматин, сквозь тисненные золотом буквы диплома стебли уже проросли. Вот ведь как.
– Хорошо, – отвечали люди на том конце провода, – пусть подъезжает ваш там…как его…Иван Петрович…
Ему вновь приходилось одеваться в пиджак, повязывать галстук: имелось в виду, что он должен был произвести впечатление.
Он не должен был проболтаться про свои загородные небеса, состоявшие из его, Александра Петровича, протяжных «о-о-о!», которых он летом, признаться, прокричал много больше, чем вместе взятые нормальные люди.
И вот АП все эти дни появлялся.
Сначала у здания. Потом в здании. Потом в кабинете. И вдруг все простодушно понимал!
Ах ты Господи, ах ты мать честная!
Ведь не старательно жил! Не старательно сидел!
А другие все это время сидели и сидели, и к данному этапу жизни уж вовсе прочно и несомненно сидят, ссорятся на всяких собраниях, скрепленные, как скрепкой, единой общей пользой дела…
Потом лежат в больницах с инфарктом или инсультом – и даже умирают или, наоборот, становятся бессмертными в бронзе, теплоходе, улице, – а он-то!
К АП приглядывались. Время было нервное, жизнь – коварная. У всех были враги, и они не дремали. Поэтому везде и всюду, даже наедине с собой, боялись подсидчиков. Незнакомых же людей боялись не тихонько, как самих себя, а люто.
Поди еще разбери, что у этих незнакомых людей водится в их неизученных головах. С виду все нормально вроде бы: галстук, шляпа, под шляпой лысинка, уши как уши, – розовые, дряблые, на волосенках кусочки серы, сразу видно, любят по-нашенски спичками в них ковыряться; затылок пучочком. Все вроде бы на месте, с какой стороны не поверни.
А вот под лысинкой этой самой, в извилинах, еще угадай, какие-такие таракашечки мыслей сидят.
Тем более, что АП в общем не вызывал доверия.
– Что ж, начнем работать? – однако произносил он, чтобы усыпить, наверно, бдительность.
– Подождите немножко, – отвечали мягко, не хотели усыпляться. – Надо увязать еще кое-где, кое-что…
И думали: «Прыткий… подсидит, чертяка… всех подсидит…»
И говорили, что сегодня уже четверг, надо приходить в понедельник.
Он приходил по понедельникам, но было ясно, что где-то что-то не сработало, не увязалось. Говорили, что теперь заболел тот, а этот в отпуске, что мест пока нет, позвоните как-нибудь через месяц, – если не забудете.
Он звонил через месяц, и позже тоже звонил, но теперь этот заболел, а другой в отпуске, и вообще тот, кто говорил насчет того, чтобы звонить, сам уже уволился и хлопотать теперь некому… И вообще, как назло, дали завышенный план по борьбе со штатами, черт знает что такое, куда людей девать, солить их, что ли, по бочкам.
В общем, в борьбе со штатами он пока что оставался проигравшим.
Временную передышку АП решил использовать для личных нужд. Во-первых, оглядеться вокруг и поразмыслить, чем является-таки вокруг него пространство жизни; и во-вторых, как тело его в этом пространстве живет.
Повторим, был Александр Петрович некоторых неюных лет. Годы эти почему-то не дали ему ни мудрости, ни покоя. Он жил, полагаясь только на свое тело, понимая, сколь ложно или случайно все то, что существует вне его, исключая еще одну такую же несомненность, как и его тело, – природу. В городе было мало существ, полагавшихся только на свое тело и природу, – разве что собаки.
К одной из собак – дети придумали ей кличку «Дичка! Дичка!» – АП особенно привязался.
Он часто наблюдал из окна ее бег: усталый, погруженный в сырость и тяжелую слякоть осени, – и пронзенный тонкими золотыми лучами колеса.
Это в отдалении проносился в колеснице многорукий погонщик: стремительно, словно вихрь, гикая и ликуя. И кнут свистел в воздухе, прижимая к земле согбенные тела гонимых людишек.
День старой собаки был посвящен заботам, а вечером она тащилась по городу домой, отдохнуть от дневного гона. Ее путь пролегал мимо башен, мимо лысых, вытоптанных газонов, мимо луж, мимо помоек и прочего городского пейзажа. Она трусила по асфальту, задирая морду, вслушиваясь ноздрями в запахи. Ни один запах, однако, не согревал ее душу: она была стара, больна, и никто не нуждался в ней. Только дети иногда окликали ее в пути:
– Дика! Дика!
Она подбегала, дети гладили ее по голове прозрачными розовыми ладонями, – до тех пор, пока их не окликали родители, запрещавшие им это делать.
И тогда она продолжала бег.
Снова десятки запахов летели мимо ее ноздрей. Среди них не было теплых запахов детства, родителей, дома. Молекулы, их составляющие, давно отлетели за город, растворились в природе: их задула метель в белых полях, истребил мороз.
Иногда ее опытные ноздри, впрочем, отыскивали в общем быстром потоке что-то отдаленно знакомое, – и тогда в сердце непонятно откуда брался молодой адреналин. Сердце ее стучало быстрее, а сама она повизгивала, радуясь неизвестно чему.
Возможно, это были запахи ее детей, недавно пробежавших здесь. А может быть, они пробежали давно и милостивый воздух сохранил в себе струйки парящих над землею их теплых следов.
Старая собака ночевала под лестницей в том доме, в котором была квартира АП. Однажды, когда на сырую землю повалил первый снег, Александр Петрович вспомнил, что уже несколько дней не видел ее.
Он спустился вниз, обеспокоенный.
Старая собака лежала в своем углу под лестницей. Она приподняла голову на шорох его шагов. Это удалось ей с трудом. Она не выходила из своего закутка на улицу уже несколько дней.
Было ясно – конец ее близок.
На следующий день с утра АП пошел в ближайшую кулинарку купить котлет, сотворенных из убиенных коров.
В этом заведении у него закружилась голова, он прислонился плечом к стене и некоторое время стоял так, вызывая любопытство старухи– уборщицы, которая оказалась рядом.
Глазами он искал окно, чтобы припасть к небу и начать пить изможденными веками лазурь, но не было окна.
Стекло был зашторено полотном, на котором были вытканы огромные кровавые цветы, похожие на куски свежедобытого мяса.
Старуха с подозрением поглядывала на него и была так увлечена, что муха беспрепятственно вползла ей в рот и отложила там много-много личинок. Часть их мгновенно превратилась в червей и начала пожирать дряблое безвкусное мясо, из которого состояла старуха.
АП доплелся до кассы и вскоре вышел из кулинарки с маленьким сверточком, уже проступающим кровью. К нему вернулась мысль о некогда убиенной корове, – мысль сверлила сознание, мысль была нестерпима. И он, испытывая отвращение, не в силах больше бороться с ним, швырнул сверток в кусты.
– Собака, пищи нет, – сказал он возвратившись. – Ищи траву…
Несколько дней после этого она убегала за город. Она находила эту траву каждую ночь. Она питалась ею. Никто не знал ее названия, и только она знала, где эта трава растет. Легко таща высокий пустой желудок над землей, она бежала сквозь ночь, и ноздри влекли ее все дальше по извилистому пути.