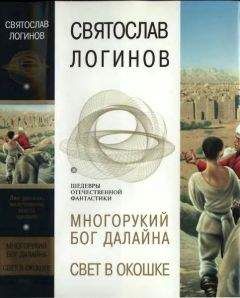Но однажды она сказала, кивнув головой в сторону лагеря:
– Они следят и думают, что я не знаю, что они следят…
– Кто следит? – удивился АП; и удивился совершенно естественно, потому как ни он сам не был кому-нибудь нужен, ни ему кто-либо: кому же была нужна эта девочка?
– Они следят, куда я убегаю, потом докладывают…
– Ничего интересного они не выследят, – пожал плечами АП. – Тут не глазами надо видеть, а… – АП запнулся, подбирая нужное слово.
Девочка ничего не ответила. Потом она сказала;
– Я скоро уеду, а тебя в будущем году здесь уже не будет, наверно…
– Наверно… – легко согласился Александр Петрович.
– Не будет… – сказала девочка. – Я знаю.
Видимо, она знала про АП многое. Про жизнь его разбросанную по электричкам, по автобусным остановкам, по каким-то улицам, конторам, куда он приходил по понедельникам и уходил, – жизнь, затраченную на произношение каких-то имен: Риточки, Леночки, Аллочки; на снег, на дождь, на ветер, который в лицо, которым дышать – не передышать, хоть подавись.
Она знала про многое в жизни АП. Но при всем том она была ребенок, просто девочка, и Александр Петрович очень и очень пожалел ее. Что же хорошего в таком-то возрасте знать так много? Зачем она тоже жила в бреду: отдавая глаза случайным вечерним окнам, бесцельно гуляя по улицам. А сердце – каким-то образам, мелькнувшим там и сям, в метро, в подъездах, близко и далеко, в проемах дверей, в витринах кафе.
Волосы на голове девочки были неопрятны и взъерошены, как будто бы вдруг однажды разметал их по сторонам взрыв. Вместе с мыслями, наверное.
Вырвавшись из ее головы, они грандиозным веером разлетелись по далеким краям, – и наверное, близился день, когда она должна была пойти за одной из них в неведомый путь, – неся на хрупких плечах большой взъерошенный шар своей невероятной головы.
По крайней мере однажды она не пришла на холмик. И АП истолковал это так, что ему не суждено уже увидеть ее.
Вскоре он явился в пионерский лагерь и спросил у первой попавшейся молодой женщины, не помнят ли они здесь такую-то девочку, волосы взорваны, голова шаром: а убегала она, собственно, недалеко, к его даче, – и он свидетель тому.
– Кто Вы такой? – спросили его.
И он показал справку от табачника, где и ЕМЦ было, и т. 1300 было, и подпись табачника была, удостоверяющая читателей сего, что Александр Петрович шел по улице, курить захотел, а табачник кричать не стал, хоть и толстый был и глаза блеклые, – кричать не стал, а продал пачку, так уж быть.
– Хорошо, – сказала женщина и повела его к начальству.
Они вошли. Начальница разговаривала по телефону, была к Александру Петровичу вполоборота. Александр Петрович певуче сел на самый краешек стула.
Начальница наконец положила трубку, повернулась к АП, – и он сразу пришел в себя.
Теперь он отдавал отчет в том, что ситуация была не совсем обычной, – если не сказать больше. Несомненно, эта полнеющая дама, под наблюдением которой в пионерлагере ежедневно били в барабан и выступали ровными отрядами дети очередных мифов…
Ну, в общем, понятно.
Эта дама тоже была одобрена телевизором и запланирована передовым газетным очерком, в отличие от АП.
АП, в общем, сдрейфил и путано объяснил суть дела.
– А вы, собственно, кто? – спросила дама.
Она сложила руки крестом на распахнутой странице журнала, потом протянула одну для поцелуя.
Он поцеловал, и дама тонюсенько сильно заверещала, открыв маленький рот с востренькими зубами, словно летучая мышь, для того, чтобы издать ультразвук.
Действительно, ее восторженное верещание походило на ультразвук: АП даже заткнул уши, обхватив руками бедолажную голову. После этого к нему неожиданным, самым чудесным образом, можно сказать, вернулся старинный веселый нрав, – некогда утерянный, – и он с бесшабашностью ответил просто и гениально:
– Никто.
– Никто? – удивилась дама, перестав верещать.
Она медлила, прежде чем начать углубляться в трудный смысл произнесенного так просто, без страха, среди бела дня: никто.
– То есть как же это понимать? Нет! – решительно сказала она и захлопнула журнал. – Я в таком случае не могу предоставить вам никакой информации…
– Вы понимаете, этой девочке… может быть… вдруг захочется поговорить со мной… Или написать письмо…
– Вам письмо? – ироническая улыбка появилась на ее губах. – Не беспокойтесь. Этого ей не захочется никогда.
– Почему? – в нехорошем предчувствии спросил Александр Петрович.
– А вы кто? – снова раздраженно спросила начальница. – Кто вы, собственно?
Но адрес наконец выдала.
– Игральная улица, дом девятнадцать, квартира сорок… Мы эту невменяемую девочку отправили к бабушке, нечего ей в лагере делать.
И только произнесла она это, как над головой ее затрещал гром, ударил с небес дождь.
Александр Петрович толкнул дверь, выбежал и припустил по аллее, горланя во все концы:
– Это потому что она не била в барабан! Не отдавала салют! Не несла знамя! Не учила речевки! Не клялась напэгэ (на Почетной Грамоте)! Вот какая она!
В безбрежном шуме, в чертогах хлорофилла растворился его голос, а глыбы воздуха и тепла рухнули на него с неба, и он разгребал их рукой до самой станции.
В город он приехал часу в девятом вечера. Дождь отплясал свои пляски. На истерзанных улицах было пусто. Вдруг марсианский, – и алый, и оранжевый, – закат ударил из промывов туч.
Он коснулся и бедных одежд АП, они вспыхнули в одно мгновение. В пустом инопланетном городе сердце его наполнилось ностальгией по земле.
Обо всем захотелось Александру Петровичу рассказать потомкам от лица умершего человечества: что и мы однажды посетили Землю каждый в свой час и видели свихнувшийся от тоски и любви закат. Видели мокрые деревья вспыхнувшие, и пустые стекла домов вспыхнувшие, и лужи, полные крови и огня, что расплескались навзрыд по пустой земле…
И осторожно ступаем мы по краешку их: пригнувшись, приплясывая, обжигая нежные ступни…
Но вскоре чисто вымытая лазурь вновь высветила город, город стал прозрачным, он наполнился людьми. Вспыхнули первые веселые электрические лампочки, которые под небом казались игрушечными и звонкими, будто бы кто-то ударял серебряными молоточками по стеклышкам, и они пели: дзинь-дзинь…
Вот таким вечером Александр Петрович отправился по адресу: Игральная улица, дом девятнадцать. Ему объяснили люди: метро «Преображенская площадь» и далее немного таким-то трамваем.
Да-да, таким-то трамваем, поглядывая в окно, постукивая серебряным молоточком по стеклышкам.
– Добрый вечер! Этим летом, этим трамваем я совершаю сегодня поездку до остановки «Игральная улица»…
– Ах, вот оно что! Всего хорошего, самого приятного вам в этой поездке: станция метро «Преображенская площадь», трамваем таким-то, постукивая серебряными молоточками по стеклышкам: дзинь-дзинь…
А – поглядывая в окно?
Да – и в окно поглядывая.
Надо же.
Вдруг в середине жизни, – если можно так выразиться, – на его долю случился некий зритель.
Он лежал на траве, а девочка сидела рядом и ведь о чем-то думала: что за персона такая Александр Петрович, зачем это он есть? Значит, он как мысль задержался в этой единственной голове…
Обстоятельство это сейчас позабавило Александра Петровича, потому что в целом он был нрава кроткого и веселого. Чего уж сетовать на течение жизни, уж она сама разберется в том, чего не сделала или сделала нам на радость или печаль.
…Дверь ему долго не открывали. Скреблись, глядели в глазок, что-то бормотали. Наконец спросили голосом невзрачным, за которым Александр Петрович угадал начало умственного расщепления:
– Это слесарь, что ли?
Нет, это не слесарь, отвечал АП.
А кто же тогда, спрашивали.
И Александр Петрович путано объяснил суть дела, – или, может быть, не суть: от метро, немного таким-то трамваем, вот скоро Игральная улица, там игры на зеленой траве, детский смех высоко летит в небо…
Старуха долго молчала, АП было слышно, как царапались у нее в голове скрипучие мысли.
– Нету Леночки… – наконец ответила она. – Леночка в интернате для вспомогательных… Недели две назад сдали и бумаги все оформили…
Горько стало Александру Петровичу и противно стало. Это известие больно корябнуло и честолюбие его тоже, хотя никогда не мог предположить он, что они водились в нем: такого он был, в сущности, веселого и кроткого нрава.
Старуха между тем щелкала запорами. Она открыла дверь на длину цепочки, а из щели пополз ее шепот:
– Они и меня хотят в богадельню… Уже пытались убить электрическим током… Им квартира моя нужна, я знаю…
– Так вы кому матерью приходитесь? – для чего-то попытался уточнить АП. – Отцу Лены или матери?
Дверь распахнулась и нечесаная, грязная старуха предстала перед Александром Петровичем.
– Кому я матерью? – старуха с ненавистью вглядывалась в Александра Петровича.