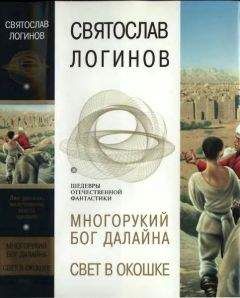– Кому я матерью? – старуха с ненавистью вглядывалась в Александра Петровича.
– Кому я матерью? – она сделала шаг, вытянув костлявую руку вперед.
АП пустился вниз по лестнице.
– Кому я матерью? – катилось за ним по лестнице, тряслось, мочалилось и наконец бездыханное смолкло, и больше не дергалось.
Среди домов города он нашел интернат: дом красного кирпича.
Войдя в здание, он остановился у лестницы, ведущей на второй этаж, и понял, как безнадежно его предприятие. Прямо на полу, на линолеуме, сидела молодая воспитательница. Она сидела, прижавшись щекой к узорчатым перилам. Ей не хотелось подниматься на ноги. Она выглядела до последнего усталой и безразличной.
Клептоманка, утащив у нее последние деньги, тихо любовалась ими где-то уже далеко; ласковая, невменяемая улыбка бродила на ее губах.
Несколько дебилов сверху спустили каждый по плевку ей на голову, – и что-то кричали радостно.
В лице воспитательницы было столько много равнодушия, что Александр Петрович испугался даже. Не может быть в одном человеке так много его! Мир, пораженный такой степенью безразличия, сейчас же расплачется, развалится, рухнет и никогда больше не соберется обратно в целое.
– Что вы… что же вы… – жалостливо стал бормотать АП.
Он спасал мир, который в эту минуту, в плену этих стен, показался ему прекрасным.
– Так нельзя, – бормотал Александр Петрович. – Так совершенно нельзя, слышите…
АП помог ей встать. Воспитательница плакала у него на плече, он разглаживал мокроты на ее голове.
– Кто вы такой? – спросила она, успокоившись. – Кто вам нужен?
Александр Петрович объяснил суть дела.
– Так, значит, вы по поводу Лены… Свиридовой? Она ушла, ее нет уже четыре дня здесь…
– Куда ушла? – спросил Александр Петрович, и, наверно, глупо.
– Туда… – сказала воспитательница и махнула рукой в сторону вечности. – Неизлечимая склонность к бродяжничеству, – воспитательница пожала плечами.
Как же! Ему надо было понять сразу.
Уже начались долгие-долгие годы странствий по голубой серебристой земле с маленькой котомкой, палочкой и неким знанием в причудливой голове: про эти края, из которых она ушла, про Александра Петровича, который был тогда-то и там-то, делал то-то на белом этом свете.
И кто-то, слушая, скажет глубоко и сердечно, мудро и со смыслом:
– Неужели так оно и было?
– Расскажите, милая, еще что-нибудь… про дни, что были когда-то, и про тех, кто делал в них что-то когда-то…
– Как звали его – Александр Петрович?
– Да.
– И фамилия такая-то?
– Да, такая-то.
Это все случилось летом, в пору серебристого листа.
АП на короткое время зашел в свою городскую квартиру; и здесь его настиг телефонный звонок начальника. Начальник велел идти в один институт.
В этом институте в пору серебристого листа некто Ефтеев, профсоюзный лидер, жил в подвале своей жизнью.
Жил он в подвале не один, а с четырнадцатью портретами. Портреты были на длинных палках, чтобы нести их высоко над головой во время демонстраций. Вахтер Клевретова, ближайший сподвижник Ефтеева в профсоюзной жизни, приходила стирать с них пыль, за чем Ефтеев следил очень тщательно.
– Что ж ты с того пыль не стерла, что косенько поглядывает да поглядывает?
– Напрасно вы говорите, Федор Иванович, – обижалась Клевретова, – в прошлый раз вы тоже зряшно сказали: будто не стерла я пыль с того, что с улыбочкой подманивает да подманивает, сахарны горы обещает…
– Ну-ну, смотри у меня, – журил Ефтеев Клевретову для порядка.
И на лице его появлялось то выражение мелкого идиотизма, которым он отличался от прочих сослуживцев. Это выражение появлялось у него на лице в минуту доброго волнения, радости или печали, вдохновения или умственного напряжения. Челюсть его отваливалась, мелко тряслась, а изо рта текла слюна.
…В пору серебристого листа, что падал с деревьев редок и невесом, Ефтеев в подвале писал протокол профсоюзного собрания участка. В частности, на сегодняшний день он писал, что в прениях выступила Клочкова.
– Что же она говорила? – пропел гнусаво и шутливо Ефтеев. – Что же она такое-то говорила? Ага. Вот сотрудники МОП (младшего обслуживающего персона) плохо обеспечиваются индивидуальными средствами трудопроизводства…
– Это хорошо! – сказал Ефтеев, имея в виду, что плохо обеспечиваются. – Никто, значит, не подумает, что нет у нас фронта для борьбы…
– А в целом, работу профгруппы признала она удовлетворительной?
Он с опаской дочитал абзац, хотя знал, что признала. Но вновь ему хотелось окунуться в режущую, критическую опасность слов «подлинный», «положить конец», «наконец прекратить», которыми пересыпалась грозная речь Клочковой, переписанная с листка настольного календаря.
– Признала… – облегченно вздохнул Ефтеев, и лицо его занялось куцей радостью жизни.
Изо рта потекла слюна, а голова его, склоненная над томом протоколов, просветлела золотым сиянием до самых извилин. Образ Клочковой, искривляясь и переплетаясь, благотворно сочился в них.
Ефтеев, приободренный, долго еще корпел над бумагами, с волнением переписывая долгие яркие и острые речи о том о сем.
Наконец, куча всевозможных отсутствий была занесена в том, страницы прошнурованы и пронумерованы. Ефтеев достал печать и долго целился кривоватым от рождения глазом в собственную подпись-закорючку.
– Жах! – наконец вскричал он плотоядно, и голос его отразился в пустых огнетушителях по углам. Он вскричал и молниеносно опустил круглую печать. И приставил том к другим многолетним томам.
В то же мгновение на него навалился здоровый могучий сон. Среди знамен по стенам, среди флагов из бархата и атласных вымпелов, среди тяжелого величия, ниспадавшего к полу, – сон человека трудно было назвать просто сном. Требовалось другое слово: почивание, усыпение.
Ефтеев по давнишней привычке спал на высоком столе красного сукна – в центре комнаты. Его дыхание в эти минуты величаво замирало, и это совершенно отчетливое отсутствие признаков жизни при бушующем электрическом свете наводило на мысль, что здесь почиет покойник. И каждый из портретов уважительно посматривал на него: и тот, что чуб вскинул и орлом парит, и тот, что улыбочкой подманивает да подманивает, и тот, что брови носит густые-прегустые.
Сон его на вахте под портретом Марксом охраняла кубышка Клевретова.
Она покосилась на мигающую электронную сигнализацию, но больше верила ружу, которое она принесла на охрану Ефтеева как бы из дней революции.
Ефтеев, помнится, сначала заартачился было. Как же – компьютер у нее под носом личный, а она – ружо. Да без мягкого знака, да все корявое, да неизвестно, чем стреляет, поскольку без мягкого знаку.
А Клевретова знай свое твердит:
– Вот пальну как – в коммунизме слыхать будет!
Но подумал-подумал Ефтеев головой своей, а куда денешься – мыслей нету, думай-не думай.
Тогда-то и сказал, помнится, Ефтеев:
– Компьютерные бандиты тоже бывают. Так что ружье тебе точно не помешает…
– Ну и спасибочки… – сказала Клевретова, принесла ему чаечек-кофеечек и под шорох-шумок бурных профсоюзных бумаг, в которые углубился Ефтеев, принялась рассказывать ему одну зажигательную историю из своей жизни.
– Вот помню в семнадцатом-яннадцатом… Молода была еще… Лет тридцать мне огненных было…
И кубышка Клевретова, вспомнив девичество и сеновалы, в которых кувыркалась, запела:
Цветет черемуха Пиджак заброшенный…
Ефтеев напряг все свои мысли и хлопнул себя по лбу, помнится:
– Или в математике я силен, или целых сто лет тебе в наших дня исполнилось.
– Сто, – запросто сказала Клевретова, – кости у меня долгие, многолетние…
– Ну и что с ружом? – углубился в бумаги Ефтеев.
– Ну и хорошую оно мне службу сослужило. Полез вор-преступник на рассвете в склад, а я как пальнула! Он и чесать! Ну я за ним! А снег глубокий, и ночь уж наступила, хоть глаз выколи! Задыхаюсь, бегу… Но, думаю, все равно тебя застрелю, вор-перевор…
– А склад – что? – спросил Ефтеев.
– А что – склад?
– Оставила склад?
– Да как же оставила? Ты чего такое говоришь?
– За вором побежала, а пост оставила, значит, пустой? – Ефтеев нахмурился, хоть после непорядку много лет прошло.
– Да как же оставила, если я за вором побежала? – не могла в толк взять Клевретова.
– Пойми, – рассудил Ефтеев, – если ты за вором побежала, значит, на твоем посту никого не было в те часы?
– Да ты что такое говоришь? Всю ночь стояла! А морозы какие были? А есть было нечего… Пошла я тогда к Глафире – и говорю…
– …и за вором бежала?
– И за вором бежала!
– Тьфу! – сплюнул Ефтеев и впервые, помнится, задумался о русском абсурде, который и в те годы был, оказывается, крепок.
– И что дальше? – сказал он угрюмее прежнего.
– Вот, значит, гребу я, – с охотой продолжала кубышка Клевретова, – а течение меня сносит и сносит. Да жара еще ой кромешная: пора сенокосная, как же… Глядела-гребла, гребла-глядела, да как вскочу да как хватну косу вострую и по травам как вдарю! Ой шурую я, ой не могу остановиться: кругом ухает все, небеса трещат, от песен моих звонких проламываются! Ну и застрелила я его: труп вскоре снегом занесло прекрасным…