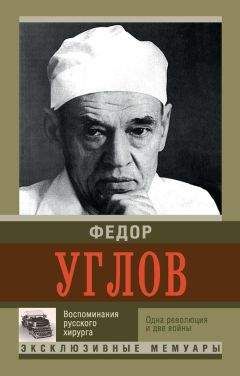Хорхе Кампос был одет в строгий черный костюм, под костюмом — белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, без галстука. Шляпа тоже была, черная, и черные же ботинки. Он был бы похож на жизнерадостного хасида или строгого протестантского проповедника из Новой Англии, если бы не был худым низкорослым индейцем, с коричневыми лицом и руками посреди черноты-белизны костюма-рубашки-шляпы. Хорхе Кампос никогда не носил такой одежды. Все это было весьма удивительно.
Все (или почти все) люди, несшиеся мимо Хорхе Кампоса, знали, что вот это скопление домов, транспорта, набережных, каналов и других слегка упорядоченных предметов называется Санкт-Петербург, и что это второй по величине город России, административный центр Ленинградской области, важный политический, экономический и культурный, да-да, прежде всего культурный, центр страны, крупный железнодорожный узел, что здесь много памятников-дворцов-музеев, и что здесь с 1703 по 1918 годы располагалась столица России, а потом она переехала в другое место, и теперь это просто административный центр Ленинградской области, крупный узел всего. А Хорхе Кампос — нет, не знал. Хорхе Кампос всего несколько раз бывал в большом (не очень), грязноватом и суетливом городе, в котором приезжим было трудно дышать из-за высоты, а местные ничего, привыкли, нормально, а вот гости да, задыхались, и даже сильные футбольные команды Бразилии и Аргентины, приезжая туда, почти всегда проигрывали, задыхаясь, неказистой сборной маленькой южноамериканской страны, столицей которой и был этот не очень большой грязновато-суетливый город, в котором несколько раз в жизни бывал Хорхе Кампос, приезжал вместе с родственниками, что-то они продавали на рынке, вроде бы. А в других крупных, да и мелких, городах Хорхе Кампос никогда не бывал, тем более в таких вот, как этот, неизвестный ему город, судя по всему, огромный, с каналами и домами.
Пытался понять, вспомнить, как же он здесь оказался, почему и зачем. Получалось не очень. Работал в поле, устал, перестал работать (казалось, временно), сел. Вроде, уснул. И — все. Короткая вспышка: со связанными руками по каменистой тропинке спускается к морю, подталкивают в спину: иди, мол, пошевеливайся, а внизу — пристань, у пристани небольшое судно, и люди там, на судне что-то привязывают, перетаскивают, какие-то тюки, веревки. Потом опять провал — и вот сидит на скамейке, канал, дома, транспорт. И люди. Больше ничего не помнил Хорхе Кампос из событий последних дней или, может быть, месяцев своей жизни.
Попробовал ходить. Побрел вдоль канала, по набережной. Канал немножко извивался. Дома отражались, и вода как будто стояла на месте, но на самом деле все-таки было небольшое течение, если присмотреться. Хорхе Кампос шел.
Сбоку замаячило что-то оживленное. Свернул в проулок и вышел на огромную площадь. Посередине возвышалось нагромождение каких-то железных башен и башенок, висели тросы, торчали во все стороны железки. Все это было огорожено забором. А вокруг этого железно-беспорядочного — много движения. Транспорту было неудобно (мешало железное нагромождение), и он с трудом, с гудками и воплями объезжал, нырял в проулки, опять выныривал. Люди совершали сразу миллионы действий, за всем не уследишь. Сквозь все это продирался трамвай, но это мы только так, условно обозначили явление словом трамвай, а Хорхе Кампос не знал, что это трамвай, он не был знаком с таким термином, и для него это была просто грязно-красно-белая железно-стеклянная хреновина параллелепипедной формы, с людьми внутри, которая с грохотом ползла. Хорхе Кампос уныло обалдел. Если бы он умел читать, знал хотя бы буквы своего родного языка, он бы, может быть, по сходным гласным и некоторым согласным смог бы немного сориентироваться в вывесках и других надписях, мелькавших там и сям. Например, смог бы прочесть слово метро (похоже ведь, всего одна буква немного отличается). Но Хорхе Кампос был неграмотен. С другой стороны, если бы он даже и прочел слово метро, пользы от этого не было бы никакой — метро, как и трамвай, не входило в число известных Хорхе Кампосу явлений и терминов.
Пошел обратно к своей скамеечке, сел. Все-таки, Хорхе Кампос был не европейцем, и поэтому не стал лихорадочно-хаотично обдумывать свое положение или впадать в отчаяние. Поскольку понять что-либо все равно было невозможно, Хорхе Кампос просто уставился прямо перед собой и затих. Стало как-то спокойно и все равно. Канал незаметно тек. Если бы Хорхе Кампос был знаком с основами географии и с представлениями о круглости Земли, он непременно подумал бы, что если поплыть по этому каналу, по течению, можно оказаться в море, в мировом океане, а потом, обогнув выступы нескольких континентов, доплыть до той самой пристани на побережье маленькой южноамериканской страны, сборная которой так часто выигрывает дома у бразильцев и аргентинцев и неизменно проигрывает в гостях. Но, к счастью, такие дикие, хотя и не лишенные рационального основания мысли не посещали Хорхе Кампоса, и он просто сидел.
Какой-то мальчик, ведомый мамой или не мамой, а какой-нибудь может быть совершенно посторонней женщиной, с воплем пы или хты рванулся к сидящему Хорхе Кампосу. Видно, Хорхе Кампос произвел на мальчика необычное впечатление своей не очень-то бросающейся в глаза диковинностью. Мама или просто женщина оттащила упирающегося мальчика, и Хорхе Кампос услышал набор звуков «этотдядя», а дальше было не слышно, потому что мама (или…) уволокла мальчика куда-то в будущее, к взрослой сознательной жизни. Все это время другой мальчик, рядом с которым не ощущалось присутствия взрослых, молча стоял, внимательно глядя на Хорхе Кампоса, и размазывал собственные сопли по поверхности своего же лица. Из двери дома вышел тяжелый, объемный человек с печатью принятой на себя ответственности на лице, взял мальчика за руку, издал звуки «пашли», и они действительно пошли, и от них, уходящих, до Хорхе Кампоса донеслись звуки «сопли», произведенные мужским голосом.
По каналу медленно, с тарахтением, проплыл кораблик, везущий пьяно горланящих людей, и Хорхе Кампосу остро вспомнились каменистая тропинка, бухта и маленькое судно с веревками и тюками на палубе. Собственно, вариантов у него было немного. Умереть с голоду среди такого количества людей было трудновато — вокруг, если поискать, много пищи, ее можно украсть, или добрые (злые) люди просто так дадут, из жалости или чтобы почувствовать превосходство или то и другое вместе. Хотя просить милостыню в новом черном костюме, шляпе и белой рубашке будет, наверное, затруднительно. Но ничего. Можно попытаться наладить словесный контакт с окружающим населением, например, найти улицу пошире и приставать к встречным прохожим, талдычить что-нибудь типа que tal, amigo или hable espanol с вопросительной интонацией. Ведь в таком огромном городе должны найтись люди, понимающие этот язык. Правда, Хорхе Кампос и сам-то habla espanol с таким ужасным индейским акцентом, что человек, изучавший этот язык в университете, вряд ли поймет… Ночевать можно прямо на улице, да вот хоть на этой скамеечке, сейчас вроде лето (действительно, было лето). А если холодная зима, то потом можно будет что-нибудь придумать, обжившись. Да.
Хорхе Кампос встал, надел черную шляпу и пошел вдоль канала уже в другую сторону, не к площади, смирившись со своей, судя по всему, незавидной (а вообще-то кто его знает, как оно еще там сложится) судьбой.
2002
Из окна видны:
стена и крыша стоящего напротив дома, участок неба и береза.
Небо окрашено в традиционные небесные цвета: оно слегка голубоватое, сероватое, темноватое, белесое. С тихим скрежетом, цепляясь друг за друга, проворачиваются небесные сферы.
Береза, как и другие природные явления в этих местах, — чахлая, облезлая, смиренно влачащая существование. Белый с грязно-черно-серыми вкраплениями ствол, тонкие, черные, спутанные, как волосы у неблагополучного человека, ветки. Среди этой невнятной спутанности выделяются две ветки — совершенно прямые, толстые, почему-то желтые. Вырастая из вялого сообщества своих товарищей, они строго вертикально тянутся к небу, двумя прямыми желтыми параллельными лучами.
Словно бы некий восторженный горно- или просто лыжник в исступлении взобрался на дерево и, забывшись, оставил там свои лыжные ненужные палки.
Однако ни одного лыжника или хотя бы лыжни поблизости не видно. Только глубокие колеи, протоптанные в снегу скромными, трудолюбивыми автомобилями.
Стена дома напротив — шероховатая плоскость, примерно пятиэтажная, составленная из бесчисленного количества серых кирпичей, прорезанная рядами окон. Местами стена вспучивается чудаковатыми остроугольными желобками — их еще иногда называют «эркерами». Эркеры призваны облегчить участь живущих там, за стеной, существ, но, судя по всему, из этой затеи ничего не выходит.