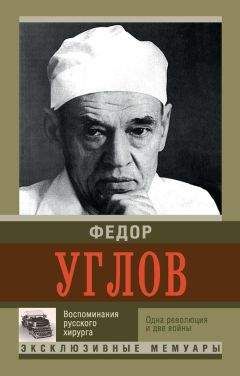Первоначальная строгая симметрия околооконных пространств постепенно оказалась искажена крошечными или несоразмерно огромными продуктами полубезумных фантазий и деятельности местных обитателей. Многие окна заставлены ящичками, напоминающими дешевые гробы для небольших домашних животных. Из ящичков еле заметно топорщатся зеленоватые с красноватыми участками растения. Кажется, что если одно из этих растений высушить, как следует перетереть в порошок, набить им папиросу и закурить, то мозг изойдет невиданными, смертельными галлюцинациями, состоящими из летающих тазов, пылающих раковин, невыученных уроков и прочего мелкого, детализированного ужаса.
На облупленном балконе висит гордое, словно геральдический щит на крепостной стене, корыто невероятного водоизмещения. Если произойдет наводнение и мутные воды подступят к утлому балкончику на третьем этаже, то спастись сможет не только само это корыто, но и «все домашние его».
Одно окно почему-то закрашено до самой форточки белой масляной краской, как будто там, за окном, ведутся изуверские научные эксперименты над зверьками, людьми или неодушевленными предметами.
Под самой крышей, между двух окон расположен подвешенный на крюке огромный, еще довоенной сборки мотоцикл с коляской. Колеса мотоцикла и коляски прочно покоятся на плоскости стены. С мрачной решимостью каменного атланта мотоцикл годами сосредоточенно смотрит вниз, на место своего неминуемого грохочущего падения. Иногда, сумрачными вечерами, кажется, что в коляске кто-то, завывая, тихонько сидит.
По странному стечению обстоятельств именно в этом доме проводит часть отпущенного ему времени (живет) Николай Степанович Субов, человек неописуемых, неясных для него самого занятий.
Николай Степанович кособоко, чуть вприпрыжку, выскакивает из подъезда в грязно-заснеженный двор. Лязгает кодовый замок, закрывая доступ мифическим посторонним, которых здесь никогда не было и не будет. Пошатываясь и одновременно слегка приплясывая, Николай Степанович продвигается сквозь снега в сторону Светлановского проспекта, к остановке наземного транспорта. Ему, в общем-то, некуда спешить, но Николай Степанович пытается торопиться, показывая окружающей пустой действительности свою жизненную наполненность. Куда бы он ни поехал, результат поездки будет один и тот же, однако, чтобы совсем не опуститься, Николай Степанович усилием воли задает себе сурово-бессмысленный, как паломничество к неизвестной святыне, маршрут.
Николай Степанович ловко, словно маленький пожилой школьник, запрыгивает в автобус и, отсутствующе призадумавшись, несется сквозь обледенелое бледное пространство по направлению к сложным, многоугольным нагромождениям станции метро «Пионерская».
2002
Вроде бы ничего не произошло, но именно в этот момент Пантелеев перестал спать и приступил к бодрствованию. Будильник, который должен прозвенеть через две минуты, был заткнут нажатием кнопки, чтоб не звенел, не гремел, не подпрыгивал.
Пантелеев всегда просыпался ровно за две минуты до предполагаемого звонка. Будильник, как обычно, был заведен на шесть, и значит, сейчас было как раз без двух минут шесть, или пять пятьдесят восемь. Иногда Пантелеев, путая цифры, заводил не на шесть, а на десять или девять, и вскакивал без двух минут десять или девять, и всегда затыкал, нажимая кнопку.
А если совсем не заводил — просто не мог уснуть, потел, парил в кошмарах, ворочался, ворочался. И не мог уснуть.
Несчастный будильник, как вечно заряженное не стреляющее ружье, за всю свою беспорочную карьеру так ни разу и не прозвенел, своим безмолвным присутствием однако же влияя на ритмы пантелеевского существования.
Солнце потерянно болталось где-то над самым горизонтом, в течение суток то заползая слегка за край Земли, то невысоко подпрыгивая в воздух, но не исчезало насовсем. И все время светло, можно читать буквы и рассматривать рисунок на обоях. Так будет еще месяца два, а потом хмарь, темень, вечный непрекращающийся пасмурный вечер, а через полгода опять светло, и можно читать и даже жить. День, ночь. Год. Пантелеев слегка отупело, по-утреннему бродил, маясь, посреди своего жилища. Это было нечто отдаленно похожее на избу или какой-то полубарак, и Пантелеев бродил среди всего этого, тыкаясь в углы и застревая у низеньких полупрозрачных окон.
Сдуру, потакая своей тягучей маете, включил компьютер. Почта. Уже который день, или даже месяц-год, из бодрого американо-канадо-австрало-англосаксонского месива выплывала девушка, или скрывающаяся под девушкиным именем сьюзен старая бабка, или старичок, или мальчик-паренек. Hi, писала девушка или недевушка, а иногда с вариациями: hi mr. panteleev или hi man. Пантелеев одеревенело читал, думал, писал в ответ hi или хай или что-то в этом роде. Разорвать связь? ОК. Выход? ОК. Но не так-то просто порвать эту связь, и на следующий день опять hi, и mr. panteleev или man тоже хай… Пантелеев был крестьянином.
В этом не было необходимости, ведь отец, знаменитый архитектор, оставил ему неприлично огромное, сверкающее жирным золотом наследство. Можно было бы тоже, по стопам, сделаться архитектором, или вкладывать блестящее золото в ценные бумаги, или, скажем, просто жениться и по субботам ходить на футбол. Но в годы молодости Пантелеева такие занятия считались недостойными нормального, делового человека. Крестьянский труд, напротив, был в моде, и многие университетские товарищи Пантелеева брали земельные участки или просто нанимались батраками, пахали, сеяли, возделывали. Пантелеев, стараясь не отстать от тенденций, арендовал на 49 лет небольшую каменистую площадку (он гордо называл это «полем») среди скал, озер и быстрых речек, очень далеко от своего родного места жительства. На аренду ушла значительная часть отцовского наследства. Кроме того, за право пользоваться «полем» Пантелеев был обязан три дня в неделю работать на поле хозяина «поля», Николая Степановича.
В здешних местах вообще и на пантелеевском «поле» в частности были способны расти (и росли) два растения: махуха и плянь многолетняя. Махуху надо было специально высевать, а плянь росла сама по себе, распространяясь ветром. Поэтому махуха считалась полезным растением, а плянь — сорняком. Хотя, может быть, махуха тоже росла бы сама по себе, но люди не давали ей такой возможности и каждую условно говоря весну пахали, ковыряли каменистую тонкую землю и сеяли махуху. А плянь следовало безжалостно полоть.
Махуха представляла собой вялое, худосочное зеленовато-бурое растение, своего рода маленькую, полудохлую траву. Скошенную и высушенную махуху мелко перемалывали, и из полученной массы делали брикеты с нейтральным вкусом — универсальный продукт питания. Таким брикетом можно было накормить голодающего неимущего человека, или крупного рогатого зверька, или покрошить в аквариум морским гадам.
Плянь мало чем отличалась от махухи. Такое же худосочное, но слегка жестковатое растение, тоже буро-зеленое, с небольшими колючками. Ее надо было полоть.
Махуха и плянь росли рядом, вперемешку. Полоть было мучительно, колюче-кровоточаще. Выполотая плянь практически сразу, через пару дней, снова жизнелюбиво вылезала из земли. Труд, труд. Так трудился Пантелеев, и ему казалось, что а хоть и трудно и нудно, но он вроде как не зря, не зря. Состоялся как человек труда.
Утро, и Пантелеев выполз на свое «поле». «Поле» простиралось. Чуть поодаль виднелся приземистый, увешанный белыми и зелеными спутниковыми тарелками сарайчик — там проводил время, действовал и жил Николай Степанович, хозяин угодий. Николай Степанович был уже при полном параде, в костюме и галстуке, и щурился на висящее над горизонтом солнышко. Завидев Пантелеева, Николай Степанович издал уныло-протяжный, гудящий звук, означающий одновременно доброе утро, как спалось, не правда ли хорошая погода и быстро работать. Пантелеев в своей привычной лениво-утренней прострации туповато стоял, глядя на сложные нагромождения города, маячившие вдали.
Город — куча сверкающих, стеклянно-арматурных зеленых, белых и синих небоскребов, многоквартирные дома, театры, концертные и выставочные залы, организованная преступность, детские садики, магазины и кладбища. И много, много жителей, тысячи, даже миллионы. От «поля» до города было километров десять.
Один из небоскребов в этом далеком городе построил отец Пантелеева. Но очень быстро небоскреб заскучал, устал стоять, накренился и упал. Больше отец уже ничего не строил, и вскоре Пантелеев стал обладателем наследства.
По праздникам, которых в году было два — Рождество и Пасха, — Пантелеев, надев свой лучший костюм, выбирался в город. Там он отстаивал долгую праздничную службу в древней бревенчатой церкви, раздавал ушлым прицерковным псевдонищим щедрую милостыню, потом бродил по магазинам, покупая новые видеокассеты, компакт-диски, компьютерные программы, обедал в итальянском ресторанчике, задумчиво слушал в театре итальянскую же оперу, а вечером, удовлетворенно-умиротворенный, на такси возвращался в свою избу-полубарак. Остальные триста шестьдесят три или триста шестьдесят четыре дня в году Пантелеев работал — четыре дня в неделю на «поле», три дня на поле Николая Степановича.