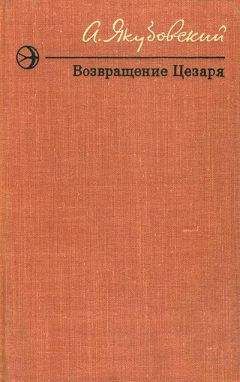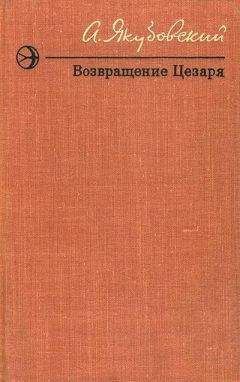«Чтобы ты сорвался…» — молил Кирьянов.
Но леса была синтетическая, крючок зацепистый, таймень не сорвался. Он и вскинулся, наверное, от отчаянья, потому что вскоре лег на воду. Все замерли. Отец Афанасий стал его подтягивать. Взял двухкрючковый багор, сунул в воду.
— Сейчас… сейчас… — шептал Кирьянов.
— Так его! — крикнул поп, делая багром резкое движение к себе. И тотчас вместо рыбы возник зеленый бурун. Вспыхнули и погасли в нем оранжево-черные плавники. Лопнул капроновый шнур. Все смешалось: лодка развернулась и попала в струю кормой, ее резко положило на бок. И рядом с ней заполоскалась на течении старенькая ряса.
На скале охнули, но поп уцепился-таки за лодку, успел — и летел с нею вниз, к бурунам.
— Ну, теперь ему разве один бог поможет, — угрюмо сказал Макухин, спускаясь вниз.
Мальчишки прибежали первыми. Когда явились Кирьянов с Макухиным, отец Афанасий был уже на берегу.
Поп корчился, локтями прижимал бока. Мокрая ряса почернела и облепила его.
— Счастлив ваш бог! — крикнул, подбегая, Макухин.
— О-ох… — выдохнул отец Афанасий и голову набок склонил. — Понесло меня. Поистине, кого желает наказать господь, того он прежде лишает разума.
Вода, стекая, журчала.
— Целы?… Целы?… — спрашивал Кирьянов.
— О-ох, все бока избиты. Наверно, и ребра сломаны. И хром вот, как Иаков после битвы с Ангелом. Как я, старый дурак, попадье на глаза покажусь?…
И сел на мокрую гальку.
Поздно вечером ходил Кирьянов к тайменю. Шевелилось опасение: не ушел ли таймень? Но была и какая-то странная уверенность, что не ушел, поскольку горы и скалы здесь.
Упал красный луч. Загорелись скалы. А в урочный час всплыл Красный Таймень.
Кирьянов вздрогнул. Все в нем теперь ликовало, радовалось, торопилось куда-то. Так спешило, что все прочие движения, находящиеся вне его, замедлились, разбились на кадры. Например, Кирьянов отчетливо видел: из воды выходит тупая рыбья морда, вода вспучивается, расклинивается, убегает. Появляется туловище — широкое. Напружинены плавники. И все это медленно входит в красноту луча.
Громадная огненная рыба расцвела на плоскости воды, оперлась на подогнутый хвост. Резкий звук выплеска мечется среди скал, врывается в напряженный гул бурунов. Рыба опускается обратно в воду. Та медленно глотает чудесный цветок и разбегается кровавыми всплесками.
Кирьянов рассмеялся.
— Так их, этих попов! — сказал он. — Ишь, рыбки им захотелось.
Красный Таймень плясал, и медная блесна моталась и звенела на его щеке.
…Ночью приснился точный план вылавливанья Красного Тайменя. Все просто. Надо стать одной ногой на широкую скалу, другой на ту, что громоздится в стороне, а руки опустить вниз, метров на пять — восемь.
Кирьянов ухмыльнулся — во сне — и натянул одеяло на голову.
…День был продолжением вчерашней радости. Хотелось петь или приговаривать:
— Эй, бей веселей! Эй, бей!
Стук разносится в деревенской тишине, бежит до синих гор, стукается в мягкие лесные бока и катит обратно. Кирьянов, целясь глазом, все бьет и бьет. Под ударами легкого молотка, занятого у хозяина, чайная ложка меняет форму и приобретает замысловатый изгиб. Это уже не подаренная женой ложка, а невиданной формы блесна. Серебряная! Рассчитанная для одного раза, одного места, одной рыбы.
И какой! Не жаль и серебра.
— Эй, бей! — напевает Кирьянов. В нем топорщится что-то жесткое и веселое.
Полировал он блесну зубным порошком. До блеска! Теперь она маленькой ракетой засветится в вечерней воде: пронзит ее, сверкнет, унесется.
Нужен тройник… Кирьянов прицепил к блесне самый крепкий тройной крючок с цепкими лапами. Он хорошей закалки, темно-синий. Такой не согнешь, не сломаешь. Остается леса… Ее нужно сплести из нескольких запасных. Повозился Кирьянов и с удилищем. Смекнув, что его покупной спиннинг не выдержит, он пошел в лес и вырубил толстое пихтовое удилище — тяжелое, длинное. Проверив все многократно, решил, что порвать лесу или сломать удилище мог бы разве только слон.
Теперь, когда все было зримо, все подготовлено, Кирьянов не спешил. Крепко врезалось — заторопился поп со своей плоскодонной лодкой, и вот два сломанных ребра.
И другое — в долгом выдерживании была своеобразная радость. Словно он стоял перед созревающим яблоком — сорвать можно и сейчас, но через неделю она будет еще вкуснее. А ходить около, есть его глазами, тревожиться — не сорвут ли другие — приятно.
Так как отъезд был на носу, Кирьянов стал понемногу готовиться. Пересмотрел и подсолил снова всех тайменей, каждого завернул в сухую тряпочку. Теперь они перевозку в чемодане выдержат, вполне.
— Славные рыбки, — говорил он, перебирая их. Сейчас все таймени были тускло-серые, со слабым крапчатым рисунком. Самый увесистый едва вытягивал на семь кило.
— Ничего, скоро у вас будет славный товарищ, — говорил им Кирьянов. И снова все обмозговывал.
Скалы… Штук двадцать их огораживали заводь. Но только две были широкие, удобные для забросов. К тому же они и стояли не очень тесно, и нависали над самой глыбью. В общем, удобные. Пойманную рыбину можно смело выводить между ними в прогал — каменную широкую щель.
Кирьянов решил ловить тайменя без свидетелей — во избежание лишнего срама. Времени для скрытой ловли было немного. Утром всего труднее — рыбаков выносило на берег ни свет ни заря.
День?… На берегу днем крутятся ребятишки, всюду суют свои любопытные носы. Оставались сумерки… Чего лучше!
В урочный час и нужную минуту ляжет красный луч. Все загорится, замерцает вокруг. Будут плавиться небо и скалы, побегут фиолетовые водяные искры.
А он встанет на скалах — победителем!
Кирьянов нащупал ногами неглубокие впадины. Утвердился. Поднял удилище. Но прежде чем кинуть блесну, он долго смотрел в медлительную воду.
Она кружила и кружила в своем вечном, даже зимой, в лютые холода, неумеряемом движении.
Вечно свободная!
Потом он вгляделся в себя со стороны. На мгновенье вообразил себя гигантом, титаническим борцом.
В пучине скрывался древний Дух этих мест. Он, Кирьянов, бросил ему вызов. Ногами он твердо стал на две скалы, лицом к заводи, а в расщелину между скал опустил руки.
На правой скале стоял он сам. На соседней — Макухин. (Этот сомневался в успехе ловли.) Посредине, в каменной щели, стоял третий — широкий городской рыбак. Это были руки Кирьянова, ими он вытащит пойманного тайменя.
Таков был его план — ловить втроем.
Гремели буруны.
Кирьянов раскачал и кинул блесну. Она сверкнула — приводняющейся ракетой. Все трое замерли — выжидая.
…Таймень взял только с двадцатого заброса. Кирьянов уже и руки отмахал, и отчаялся. Решил, что рыба ушла. Но, догадавшись кинуть блесну к самой скале (блесна, падая, ударилась сначала о камень), соблазнил тайменя.
Он взял блесну.
Из-под скалы взлетели брызги — высоко. Унесся громовой удар. Вернулось многократное эхо — горы злыми псами лаяли на Кирьянова.
— Что, не понравилось! — засмеялся он и опомнился. Надвинулось тяжелое, даже страшное: предстояло утомить рыбу, держа ее на натянутой лесе. Хорошо, что трое…
А уже накатывали разнообразные задачи. Их нужно быстро решать: таймень метался, удилище гнулось, ладони горели, ноги скользили.
Кирьянов цепко держал рвущееся удилище. Чувствовал — руки превратились в толстые резиновые жгуты. При каждом новом рывке они растягиваются, растягиваются… Он сопел, морщился, бормотал сердито:
— Удержу… Удержу…
В кипенье рыбьих всплесков ему слышалось:
— Оборву!.. Оборву!
Когда уже и сил не было, и Красный Таймень рванул в сторону и приостановился от нерешительности (или боли), он сунул удилище третьему. Тот засуетился, ловя удилище за комель, споткнулся, вскрикнул испуганно: «Ух, тут и шею сломать недолго!» и сделал очень важное — оберегая лесу от скальных граней, передал удилище Макухину. Теперь уже Макухин, пытаясь сохранить равновесие, балансировал и одновременно гасил удилищем все рывки тайменя.
Тот быстро пошел поперек заводи, к выходу на течение, но третий ловко схватил брошенное ему Макухиным удилище и придержал рыбину… Вот удилище снова у Кирьянова… Опять третий… Макухину… Обратно… Третьему…
Кончилось!
Садилось солнце. Густели тени. Леса дрожала, брызгалась мелкими каплями. Красный Таймень подавался туго, но подавался. А третий (его была теперь работа — выводить измученного тайменя) все сматывал да сматывал лесу, накручивая ее вращением удилища. На клешнятых его руках шевелились толстые сухожилия.
Кирьянов с Макухиным, видя близкий конец, спустились вниз. Теперь они теснились в щели — все трое — потные, взъерошенные.
Кирьянов смотрел на медленно всплывающего Красного Тайменя. Думал: наконец-то ушли — и навсегда — зимние тревожные сны. Но, должно быть, оттого, что Кирьянов до смерти был измучен, он вдруг ощутил боль. Это была пронзительная боль. Мерещилось — его самого тащили наверх, зацепив трехрогим крючком. Это невыносимо. Хотелось крикнуть: «Не надо! Отпустите! Мне больно!»