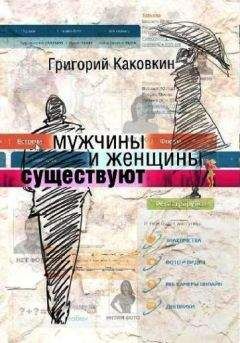— …только не давай ей ничего в рот брать, она у нас еще маленькая, — забеспокоилась мать, расцеловываясь с сестрой и ее мужем — одноруким инженером по технике безопасности.
Несколько лет назад, работая на урановом руднике, он оказался на пути сорвавшейся с цепи вагонетки, и Михалыча раскрошило основательно, руку ампутировали сразу, а потом еще целый год склеивали по частям, и он, к удивлению, склеился, как пластмассовый. Стал даже еще более жизнерадостным и пронырливым.
— Я все могу достать. Надо шубу — пожалуйста, надо ковер два на три — вопросов нет, обращайся, Иван, мы родня, а не хрен собачий, — говорил он в тот августовский вечер, когда закусывали и выпивали. — Я прихожу прям к директору промторга. Хлоп — пузырь на стол левой рукой и прям сразу говорю, что мне, шахтеру, надо. И все. И никакого дефицита. Что я, в Киев или Москву, что ль, буду ездить? Давай! За них!
Мужчины выпили вместе с женами и посмотрели на играющих в углу детей. Мальчик Павлик и девочка Мила, сидя на полу, играли, почти молча, почти не двигаясь, будто позируя невидимому художнику, который, скорее всего, должен быть немцем, рисующим сладкие рождественские открытки. Родители смотрели на них и боялись вспугнуть взглядом, или вопросом, или помощью — это была та редкая, живая картина, ради которой мужчины и женщины, должно быть, и рожают детей.
Все дни в гостях Мила и Павлик не отходили друг от друга. Он взял ее за руку и повел в небольшой яблоневый сад, на грядки рядом с домом и что-то говорил однозначное, детское, невнятное и простое:
— Здесь у нас растет тыква. Вот она. Сейчас она зеленая, а потом будет желтеть.
Мила слушала пятилетнего энциклопедиста и была, кажется, в гипнозе. Она не переспрашивала, не отвлекалась, не искала глазами мать или отца для того, чтобы проверить, рядом ли они — она от них ушла, как уходит взрослая дочь, выходя замуж. Их уже не было. Был только Павлик, великий, все знающий, магический мальчик.
Родители днем ходили по магазинам, вечером сидели за столом, выпивали, а дети были всегда с ними, стояли в очередях, ждали, когда отцы пропустят по кружке пива у большой желтой бочки, и были просто идеальными: не слышно, не видно, послушные, как узники.
И расстались так же. Ходили по Желтым водам, пили пиво, варили раков, вечером за столом сидели допоздна, а потом снова оказались на вокзале, и Павлик сказал:
— Приезжай еще, Мила.
— Хорошо, я приеду, — не по-детски ответила Мила, будто это зависело только от нее. — Приеду и скажу: здравствуй, Павлик.
Когда Тулуповы сели в вагон, чтобы отправиться после четырех дней гостевания в свой Червонопартизанск, и отмахали руками через открытое окно положенное, хмельной отец спросил просто так, как спрашивают трехлетнего ребенка, проверяя сообразительность:
— Ну что, понравился мальчик?
— Осень, осень хороший, — ответила трехлетняя дочь, глядя на мелькавший за окном городок.
— Вот. Я говорил — жених, твой, — сказал Иван Тулупов, устраиваясь на боковой полке плацкартного вагона, и тут же уснул.
Мила тоже быстро уснула сморенная насыщенной совместной жизнью, а матери почему-то не спалось, хотя она была просто устроенная женщина — засыпала только присев. Она любила семью, любила дочь, любила мужское внимание, любила делать все, что они делали эти дни: покупать, вернее, тогда это называлось “доставать”, загорать на берегу реки, дружить семьями, делиться женскими секретами с сестрой, вкусно готовить, выпивать с мужьями и их останавливать. Чувство родства, которое грело эти дни, теперь снова сузилось до семьи, спящей в полупустом вагоне. Мария Тулупова, повар Червонопартизанского интерната, думала о своей старшей сестре, преодолевшей все несчастья, и хотя муж инвалид, но мужик-то нормальный, веселый, да и под штанами, как давала понять сестра, все как надо, а сыночек — так просто ангел. “Как хорошо, как хорошо” на разные лады под стук колес крутилось у нее в голове.
А через шесть месяцев, в начале весны, пришла телеграмма, приглашавшая прийти на междугородный переговорный пункт — в Червонопартизанске тогда в квартирах телефонов не было, — и соседка сестры, с которой летом познакомились, сквозь рыдания произнесла ужасное:
— Павлик… Павлик… Павлик утонул, под лед Желтой речки провалился…
В тот же вечер Мария, Иван и Мила выехали на похороны. Хотели оставить ребенка, но не на кого, и неизвестно, когда вернутся, и как там сестра с мужем — может, неделю, а может, и больше придется пробыть.
Миле ничего не объясняли. Она только спросила:
— Мама, мы к Павлику едем?
— К Павлику, к Павлику, — сказала мать и зарыдала страшно.
Теперь дорога была долгая и грязная. Зимой Прокопенко не ездил, мотоцикл ставил в сарае, и до вокзала шли и мерзли. Степной ветер, при плюс один, пробирал до костей. Соседка Света поддерживала Марию, Иван нес Людмилу на руках, Прокопенко тащил фибровый чемодан с вещами. Фонари раскачивались и скрипели, разбрасывая свет по безлюдной улице, по лужам, снегу и заборам.
Весь путь Мила спала, как будто из деликатности. Так на нее действовали слезы матери и тяжелое, горестное дыхание отца. Спустя многие годы мать всегда вспоминала это интуитивно точное поведение маленькой дочери:
— Какая ты была. Молчишь, глаза такие… и ничего тебе не надо, и ничего не спрашиваешь…
Проснулась только в церкви на руках у отца. Сладкий запах лампад, свечи горят, из непромытого окна — свет, и большой, взрослый гроб с телом Павлика. Хотя в Желтых водах и был коммунизм, но маленький гроб для мальчика сделать было не из чего, решили положить ребенка в имевшийся в ритуальной конторе.
Павлик лежал, казалось, совершенно не тронутый смертью. Его сверх меры нарумяненные в морге щеки как будто напоминали живого мальчика, только еще более правильного и послушного. Мила видела, как ходит вокруг гроба священник, как нараспев произносятся им какие-то непонятные, длинные слова и, конечно, не понимала и не могла понять, что происходит. Уже взрослой, когда она придумывала себе свое детство, потому что никто не знает, каким оно было на самом деле, какое событие или впечатление действительно определило жизнь, а что наросло позже в бесконечных семейных пересказах, в случайно сохраненных фотографиях — никто не в силах отделить реальное сформировавшееся детство от его экспортного исполнения, никто — ей казалось, что она прекрасно помнит эту картинку в церкви. Лампады, свечи, свет, большой гроб с телом ребенка, в ноги которого отец положил его игрушки — танки, солдатиков, самолеты. Миле казалось, что до мельчайших подробностей она помнит и то, как летом в жару ходила с Павликом по саду, как вечером тихо играла с ним в углу комнаты, около дивана, а родители посматривали за ними и ужинали за столом, рядом.
— Господи Боже мой, — стонали женщины, выходя из церкви. — Боже мой…
Так или иначе, это была ее первая женская история. И потом, когда уже все, казалось, дотерто до дыр, дорассказано, доболтано, довспомнено, когда трогающая душу история превратилась в словесный узор, в настенный календарь, она, крепко подвыпив, сказала, вспоминая своего первого мальчика:
— …в три с половиной года я стала вдовой.
Первое свидание.
Это было первое свидание в ее новой, как она считала, совершенно новой жизни. Компьютер она освоила лет семь назад, когда в музыкальном институте имени Ипполитова-Иванова ввели электронную регистрацию библиотечного фонда. Ее, как заведующую библиотеки, отправили на курсы, и через месяц она уже начала вбивать по пятьдесят (такую планку себе поставила) наименований в день нотных альбомов, книг по истории и теории музыки, учебников, самоучителей игры на инструментах, методичек и курсов по всем музыкальным специальностям. Иногда Людмила Ивановна Тулупова, отыскивая регистрационный номер, открывала книгу, чаще довоенную, скупую на краски, с желтыми, ломкими страницами и неожиданно для себя пропадала в рисунках, подписях к ним, нотах. Они уводили ее в мир закрепленных в графике звуков, в тайну неизвестных слов “квинта”, “терция”, “гептахорд”, “фермата”. Приблизительно как этот “гептахорд” — семь ступеней музыкального звукоряда, к ней пришло и слово “интернет”, которого она долго боялась, просто по произношению, по окончанию “нет”, и только когда дочь накричала, она поняла, что за этим скрывается:
— Мама, это просто телефонная трубка! Телефонная трубка так называется. Называется — ин-тер-нет. Ты мне звонишь по телефону, тоже иностранное слово, кстати, и что? Мы с тобой разговариваем… а ты мне напишешь, пришлешь по интернету — все!
Тогда, перед отъездом в свой первый отпуск за границу, в Грецию, ее дочь с идиотским именем Клара — она так не могла к нему привыкнуть, когда она сообщала, что ее дочь зовут Кларой, каждый произносил омерзительную, преследующую ее всю жизнь скороговорку про Карла, что украл кораллы — Клара и научила ее пользоваться интернетом. Мила подумала, какая у нее умная девочка получилась — рассудительная, взрослая в двадцать два года. “Просто замечательная, красивая, умная девочка, и не поймешь в кого” — такая мысль ей приходила часто. Тулупова легко поняла, что такое удаленный сервер, подключение, логин, пароль, и вошла в Сеть, отправив первое сообщение через километры и моря: “Мы с твоим младшим братом, который дома теперь не ночует, волнуемся за тебя и переживаем, как там греки на тебя, нашу красавицу, не бросаются?”