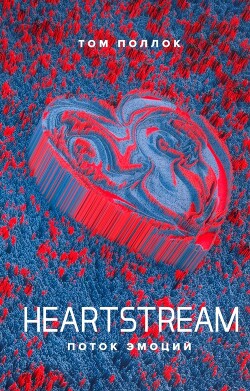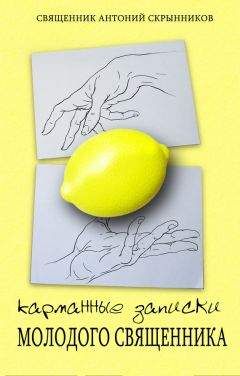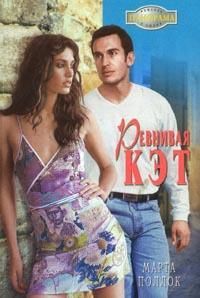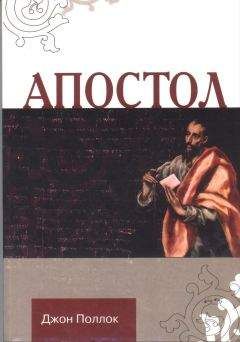Полуденное солнце снаружи заставляет меня щуриться. Надгробия, деревья и ограды у церкви становятся размытым пятном. Я оглядываюсь.
— Чарли? — зову я. — Чак-весельчак?
— Не называй меня так, — раздается голос за дверью. По крайней мере, так мне послышалось. Из-за всхлипов это звучало как «Н-не н-назы-в-вай м-меня т-а-а».
— Как скажешь, Чакминатор.
Я толкаю закрытую дверь и вижу его: шипы ирокеза, которые он дергал, растрепались, тушь залила весь воротник белой рубашки.
— Чакминатор? Что это такое?
— Без понятия, Чак-чак-чаком-зачавкал, я только что придумала.
Он фыркает сквозь слезы, и на секунду мне показалось, что он вот-вот улыбнется.
— П-п-просто, — начинает он, но очередное рыдание душит его.
— Эй-эй, я понимаю. Понимаю.
Я притягиваю его к себе и обнимаю, чувствуя, как его худенькая грудь расширяется и сжимается. Очередной его всхлип как ножом по сердцу. Невыносимо слышать, как он страдает, просто невыносимо, но — отвратительная мысль, которую я не могу от себя отогнать, — кажется, я завидую ему.
Ирония в том, что из Чарли вышел бы потрясающий стример. Он так ярко все чувствует. Мое горе, напротив, свисает надо мной, как пианино на потрепанной веревке.
— Все в порядке, — говорю я ему, — все в порядке.
— Не-не-не… — начинает он.
— Да, согласна, не в порядке, — признаю я. — До порядка как до другой галактики. Если бы «порядок» был звездой, его свет дошел бы до нас только несколько десятилетий спустя. Но, увы, ничего не поделаешь, и я здесь, с тобой, обещаю, я не оставлю тебя одного. Хорошо?
Он крепче прижимается ко мне, уткнувшись лицом в плечо. Через некоторое время его хватка ослабевает, и я отпускаю его. Он глотает слезы, улыбаясь мне сквозь веснушки. Чарли похож на миниатюрную копию нашего отца. Вылитый папа в этом возрасте — все так говорят. Люди всегда говорят что-то подобное про мальчиков.
Конечно, четырнадцатилетний папа никогда бы не вышел из дома с таким толстым слоем штукатурки, которой хватило бы на месяц Большому Московскому цирку.
— Как ты умудрился испачкать тушью ухо? — спрашиваю я его, вытирая пятно краем своего рукава.
— А по-моему, тушь для ушей могла бы стать хитом, — он позирует, изображая вокруг лица рамку из ладоней. — Дэни говорит, у меня очень сексуальные уши.
— Пожалуйста, держи фетиши своей девушки при себе.
Он шмыгает носом и ухмыляется. Протягивает мне руку, и мы сцепляем пальцы.
— Спасибо, сестренка.
— Для этого я и нужна.
— Я знаю, потому и… — он затихает.
— Чарли? — обращаюсь я к нему, но он не отвечает.
Он все еще улыбается, но я замечаю, что он больше не смотрит на меня. Он глядит через мое плечо, и его рука сжимает мою так сильно, что хрустят костяшки пальцев.
— Что? — спрашивает он не сердито, а озадаченно, и это еще хуже. — Что они тут делают?
Я поворачиваюсь туда, куда он смотрит, и чувствую, как сердце уходит в пятки.
Их примерно триста, может быть, даже четыреста. Большинство из них в белых футболках с небрежным рисунком птицы. Небрежным — потому что шестнадцатилетняя девочка, которая сделала этот набросок углем, была так расстроена, что ее рука металась по всему рисунку. Честно говоря, меня не стоит упрекать за дрянную работу: в тот день мы узнали, что болезнь мамы неоперабельна.
Из-за этой футболки и одинаковой стрижки — короткого «бокса», как у меня, для более плотного прилегания аппликаторов — они все были похожи на заключенных одной и той же готической тюрьмы. У многих из них были темные круги под глазами. Я не удивилась. Эта шайка — основной костяк подписчиков, они следят за всем, что я выпускаю с прошлого четверга, а это значит, в последнее время спали они мало.
— Эми! — кричит щуплый мальчик в первом ряду. — Что же нам теперь делать?
Я освобождаюсь от хватки Чарли и иду к ним. Я испытываю легкий ужас. Меня бесит, что они здесь, и я вдруг осознаю, что все еще нахожусь в режиме трансляции, поэтому они знают, что я чувствую. Кажется, никого из них это не волнует, если они вообще заметили. Они смотрят на меня с надеждой.
— Что теперь? — снова спрашивает мальчик, когда я подхожу к ограде. Он такой высокий, что кажется, будто согнется на ветру. — Что же нам теперь делать?
Я беспомощно развожу руками:
— Если бы я знала.
— Но… — он запинается. — Но… — похоже, он не знает, как закончить фразу.
Я смотрю на остальных: многие из них плачут или плакали не так давно и шокированно смотрят покрасневшими глазами на меня или сквозь меня.
«Вы знали, чем все закончится, — хочется мне сказать. — Я никогда не лгала вам. Я никогда не заставляла вас следить за мной, подписываться на меня. Справиться как-нибудь самостоятельно — вот что я должна сделать».
Я хочу быть сдержанной, но не могу, потому что — в какой-то мере — они тоже потеряли маму.
— Послушайте, — начинаю я, — спасибо вам, всем вам, за…
— ВЫ, ГРЕБАНЫЕ СТЕРВЯТНИКИ!
Я резко поворачиваюсь. Тетя Джульетта идет к воротам церкви, размахивая над головой своей сумкой, словно средневековой цепной булавой. (Я как-то несла ее сумку и знаю, что та может быть страшным оружием. Она весит как детеныш слона.) Папа, покачиваясь, идет за ней следом.
— Для вас нет ничего святого? — кричит она. — Господи, это же церковь, вы, злобные проходимцы, проявите уважение!
— Но, Джульетта…
Моя тетя повернулась, чтобы взять под прицел оратора — маленькую пухлую девушку в очках слева от толпы.
— Кто это? Откуда ты знаешь мое имя? Кто разрешил тебе произносить его? Кто ты такая, соплячка? Это закрытые. Семейные. Похороны. — Она выплевывает каждое слово. — Вы, ничтожные туристы-паразиты. Никто не приглашал вас сюда!
— Но… при всем уважении, миссис Райс… она пригласила нас.
Я замерла. Палец высокого мальчишки указывает на меня.
— Эй, — запротестовала я, — неправда. Я не звала…
Но я так и не договорила, потому что, не прекращая шмыгать носом за моей спиной, Чарли тихонько подкрался ко мне. С ужасным выражением подозрения на лице он бросился вперед и сорвал черную шляпу с моей головы. Аппликаторы слегка зашипели, охлаждаясь на свежем воздухе.
— Я не… — начинаю я. Хочу сказать: «Я не специально». Но это неправда. Не похоже на то, чтобы утром я поскользнулась и упала в ведро с нейропроводящими аппликаторами.
Папа и тетя Джули уставились на меня. Выражения их лиц почти идентичны: как можно быть такой тупой? Так себе реакция, но это ничто по сравнению с выражением лица Чарли.
— Ты обещала, — говорит он так тихо, что я едва слышу его.
Он бросает шляпу на траву у надгробия и убегает к церкви. Я собираюсь идти за ним, но папа встает на моем пути, его спокойная улыбка противоречит силе, с которой он держит мои руки.
— Дай ему секунду, а, дорогая?
Я оглядываюсь через плечо. Четыре сотни лиц смотрят на меня, возвышаясь над четырьмя сотнями черных птиц на футболках. Я прекращаю трансляцию, но все еще вижу в каждом из них свое собственное сожаление.
Когда такси подъезжает к дому, я не вижу ни намека на наш семейный автомобиль. Папа «предложил» мне взять машину, «чтобы дать брату немного времени», — я не стала спорить. До нашего дома час езды через весь Лондон, и думаю, что к концу поездки взгляд пережившего предательство Чарли испепелил бы меня дотла.
В пути я пыталась отвлечься от мыслей, подключившись к трансляции Ланса Ялты. Возможно, Ланс — нелепый незрелый мужчина с бронзовым загаром и чисто декоративными бицепсами, но по какой-то причине он — самый важный персонаж в Heartstream. Последнее обновление он выложил в восемь вечера по времени Сент-Люсии, где, думаю, он и находился со своей яхтой. Ходят слухи, что яхта была бесплатной — спонсоры от него в восторге.
Я нажала на маленькую фиолетовую иконку «воспроизведение» и почувствовала, как нагреваются аппликаторы, когда 7 гигабайт записанных эмоций Ланса начали загружаться с серверов Heartstream. Волна удовлетворения захлестнула меня. Я почувствовала карибское солнце на обнаженной коже, свежий соленый аромат океана покалывал ноздри. Я не видела, как светит солнце, и не слышала тихий плеск волн — Heartstream увеличивает пропускную способность канала, не транслируя изображение и звук, так как обычная виртуальная реальность делает это гораздо лучше. Поэтому мои глаза были открыты, и я заметила на обочине заплаканного осунувшегося стримера в футболке с птицей, и вдруг залитое солнцем самодовольство Ланса стало непростительной тратой времени. Я остановила воспроизведение. В этом-то и проблема с Heartstream. Ты можешь почувствовать что угодно, но приложение не избавит тебя от собственных эмоций.