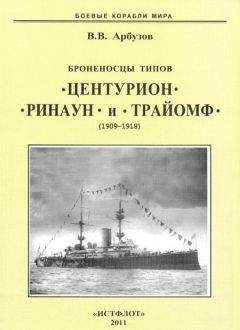— Зачем? Зачем?
— Ну, как хотите. Я пойду покурю на крыльце. Ложитесь все-таки спать.
Он потянул со стула брюки, надел рубашку, на цыпочках прошел через комнату, где спала мать, после долго сидел на крыльце, курил, смотрел на звезды, играющие голубым блеском над крышами сереющего в предрассветном воздухе дворика.
Ему не хотелось возвращаться в комнату, продолжать разговор, слышать мучительную искренность переставшего владеть собой Исая Егоровича, обезумевшего в своем ревнивом чувстве к матери — неприятна была и его чудаковатая одержимость, и его ничем не прикрытая слабость, и его готовность к унижению.
«А что, если мать согласится иметь такого покорного ей раба? — подумал неуспокоенно Александр и поежился на ночном ветерке. — Нет, этого не может быть».
— Это ваша красота похитила мой разум. Вы своей красотой смущаете восходящее солнце.
— О, Эльдар, комплименты напрасны. Я душевно отравленная Гретхен. Я ненавижу весь мужской пол. И не надейся, и не распускай слюни. Хотя глаза у тебя, как у молодого верблюда.
— Такова будет награда… Часть двадцать третьего стиха пятьдесят шестой главы Корана.
— Твоя награда — тюрьма или смерть, косоглазый Эльдарчик. Рано или поздно. Вы с Аркадием одной веревочкой связаны.
— О, Нинель, несравненная! Наутро после первой брачной ночи муж может увидеть лицо своей жены после свершения брачного обряда. Но я вижу тебя сейчас, о луноликая гурия.
— Какой еще обряд? Ха-ха! Надрался, Эльдарчик?
— Мусульманам пить вино запрещается. Терпи, если терпели — часть тридцать четвертого стиха сорок шестой главы Корана. Я танцую с тобой — и ум мой улетел от радости.
— Мусульманин, поверни ко мне свою физиономию!
— А, это ты, Роман! Тебя интересует богоподобная Нинель?
— Мусульманин! Улетай вместе со своим умом и Кораном и уступи гурию православному. С Сафо хочу потанцевать я. Нинель, своей красотой вы превращаете богомольца в безбожника! Эльдар — наивняк. Я — вполне приличный мужчина. Он еще не знает, что добродетель женщины — личина дьявола, Дон Жуан соблазнил тысячу трех женщин. Его личный бухгалтер Леперело вел счет…
— Эльдарчик и Роман! Боже! Два умника — два трепача! С ножовой линии. Это вы меня думаете соблазнить, лопухи? Кому же, вы думаете, я отдам предпочтение — мусульманину или православному?
— Воистину берегись жен своих… — часть четырнадцатого стиха шестьдесят четвертой главы Корана.
— Запрись, Эльдар, цитатами, не удивляй памятью шизофреника! Цыц! Я сейчас начну цитировать Библию! Бог един и троичен — в этом уверены христиане. Да будет же слава одаряющему и вездесущему. Вселенское аминь. Нинель, какого святого? Изображаете из себя Сафо, а сами так задеваете меня коленками, что я начинаю гореть, как в аду! Соблазняете?
— Никогда! Кого я хотела бы соблазнить, то это — Людочку! Потанцевать с ней. Она — очаровательна.
— Тогда прощайтесь с белым светом. Аркадий вас задушит двумя пальцами и как тряпку выбросит в окно. Вы опять стучите в меня коленками?
— Что ты изображаешь из себя, Роман? Сексуальные часы?
— О, обезбоженный мир! Я краснею за вас, Нинель. А ты, Роман, забываешь себя. Ты бросился в грех.
— Не красней, Эльдар. Иди выпей боржоми, если водку тебе нельзя, чему я сочувствую.
— Если мы живем не так, как надо, то призовем на помощь Аллаха. Оргийное безумие… Ты согласен, Роман?
— На дворе третье тысячелетие от прихода Иисуса Христа! Дионисовский избыток сил и безумие. Я сейчас ухожу и увожу Нинель. Она меня замучила коленками.
— Ромочка! Никуда я с тобой не поеду. Ты не для меня. Вы, ребята, трепачи, занятные философы, но как вы мне надоели со своими молебнами. Что вы ко мне прилипли оба?
* * *
Александр, отхлебывая вино из стакана, сидел на диване, немного в стороне от общей толкучки, оглушенный пестрым хаосом голосов, смехом, криком спорящих, звуками уже замученного патефона, то хрипевшего горлом Армстронга, то изнывающего в любовной истоме аргентинского танго, ни с кем не знакомился, не вмешивался в разговоры, наблюдая за танцующими, знавшими и, по-видимому, не знавшими друг друга, изредка ловил на себе беглые взгляды, вопросительно-острые, готовые к враждебности, легковерные, расположенные к знакомству, равнодушные, беспричинно заносчивые, нетрезвые — все это новое, впервые увиденное им, занимало его, возбуждало любопытство, и он был доволен тем, что Кирюшкин, пригласивший его в эту компанию, дал ему абсолютную волю, без обязательств («Делай что хочешь, пей вино и смотри на этот московский зоопарк, кое-что увидишь интересное»), без соблюдения каких-либо нудных общений и формы поведения — здесь была полная свобода.
Утром Кирюшкин позвонил по телефону, спросил, знает ли он, что такое богема, Александр ответил, что имеет отдаленное представление, после чего был приглашен на квартиру одного известного художника, где соберутся студенты, всякая тыловая шантрапа, но будут и свои ребята, которых он, Александр, уже знает.
Они запоздали (так хотел Кирюшкин), а когда на третьем этаже большого дома в конце Кропоткинской вошли в квартиру художника, дохнувшую папиросным дымом, накатом перемешанных голосов, запахом еды и вина, Кирюшкин поднял руку, приветствуя всех сразу: «Вилькомен, дамен унд херен!» — и сейчас же подвел Александра к ближней танцующей паре, дружески похлопал по спине молодого человека с женственными пухлыми губами, сказал шутливо: «Ос-сади на плитуар», — и осторожно взял под локоть длинноногую девушку, заметную рассыпанными по плечам золотистыми волосами; она приветливо улыбнулась ему, слегка тряхнула головой, прямо и удивленно посмотрела на Александра, когда Кирюшкин, по-прежнему несерьезно, сказал: «Это герцогиня Лю, или Людмила, будущее светило медицины, а это лейтенант гвардии Саша, или Александр, бывший командир взвода разведки».
С той же смелостью глядя ему в глаза, она протянула руку, и он так нерассчитанно пожал ее теплые пальцы, что она немного наморщила лоб, но сказала тоном гостеприимной хозяйки, принимавшей давно знакомого гостя:
— Сегодня за столом никто не сидит. Стол, как видите, вон там, у стены. Каждый наливает сам себе. Пожалуйста, Александр.
— Чувствуй себя, как в голубятне Логачева, — приободрил Кирюшкин. — Помню, ты водку не пьешь, пей вино. И знакомься, с кем душа пожелает.
Вероятно, этот парень не знал, что такое невозможность; сухощавый, крепкий в плечах, одет он был сейчас в щегольские белые брюки, черный обталенный пиджак; мягкая рубашка с расстегнутым воротом; жесткие зеленые глаза светились усмешливой дерзостью.
— Занимай выгодную позицию, Александр, — сказал он весело.
Тут же к Кирюшкину суетливо подошел вылощенный человек с толстыми бровями, с желчно опущенными уголками рта, приветственно сделал ныряющее движение морщинистой шеей, туго стянутой воротничком с клетчатой бабочкой, спросил скрипучим голосом:
— Как ваше дело ладится?
— Что?
— Как ваше дело ладится?
— А вам, простите, какое дело?
— Аркадий — парень из окопов, поэтому еще не отвык говорить грубости, — со строгой укоризной остановила его Людмила. — Лучше познакомьтесь. Это Евгений Григорьевич Панарин, прекрасный художник, ценитель, скупщик картин, хозяин этой квартиры.
— Лю, виноват, — Кирюшкин изобразил повинное выражение поклоном своей белокурой головы. — И вы, Евгений Григорьевич, примите тысячу извинений от огрубевшего в окопной грязи солдафона. Дела мои ладятся прекрасно. Но в живописи не понимаю ни гу-гу. Моя стихия — иная.
— Чудно, чудно.
Евгений Григорьевич нервно дернул подбородком, поправляя бабочку, еще ниже опустил желчные уголки рта и отошел как-то боком, точно бы опасаясь повторной грубой выходки Кирюшкина, который, нежно усмехаясь, легонько притянул к себе Людмилу и — как ребенка — поцеловал ее в кончик носа.
— Что за демонстрация превосходства? Ты одурел? — сказала она медлительным голосом, и щеки ее порозовели. — По-моему, ты представил, что целуешь в лоб лошадь, спасшую тебе жизнь. Фронтовые шалости.
— Милая Лю, я готов на глазах у всех встать перед тобой на колени и сказать, что я грубейший осел двадцатого века, но преклоняюсь перед одной принцессой в этом доме и приглашаю ее на танец, рискуя быть опозоренным, освистанным, ошиканным!
— Представляю тебя к шпаге за храбрость! — Она тряхнула золотистыми волосами и рассмеялась, глаза ее заискрились бесовским лукавством. — И все-таки какая нравственная распущенность произносить пошлейшие фразы, даже не краснея. Как вы на это смотрите, Александр?
Она взглянула на него с товарищеским поощрением, а он, ошеломленный фразами Кирюшкина, его новой интеллигентной манерой говорить, его великолепным черно-белым костюмом, подумал: «Кто же он в конце концов, этот Аркадий?» — И, плохо расслышав вопрос Людмилы, ответил без поиска остроумных слов.