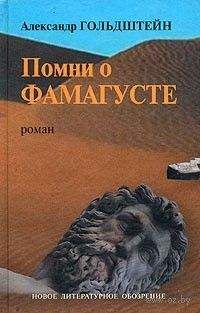Переночевав на вокзале, подле вспотевшего на баулах, с детьми-малютками, с грудниками-сиренами люда, а ташкентский, бакинский сгинули навек на перегонах, ох, мать честная, прибыл, ну, держись, размажут, из Ленинграда подалась на юг, в Закавказье, в деревню духоборов Славянка, процветшую, сравнительно с разором окрест, благодаря упорству переселенческих предков: их нетленные мощи сквозили всюду, во всем, золотая валюта порядка, его остов, алфавит, охрана. И стучала топорами, возилась в огородах румяная молодость; блаженство и здравие обособленности. Она снова ходила в платке, сажала картошку, плечи освоили коромысло, но душемутительная нападала тоска у колодца, за прополкою грядки и лущеньем гороха, и, завязав узелок, она села в раздолбанный «пазик» с голосившим тюркские частушки шоферюгой, который за восемь часов с остановкой на перевале домчал ее, вытряся наизнанку, в стольный град магометан, по легенде, междуплеменный и веротерпимый, где она первым долгом, не обзаведясь даже углом преклонить главу на подушку (откуда бы взяться, ей-богу, подушке), пришла во православный храм, показать вышивки на святые сюжеты; тем и кормилась потом, от церкви и прихожан.
Ах, Валентина, Валентина, вздыхали горбуны. Голуби вы мои, отзывалась она. Рассказывала о Свете, об уготованном, на грехи невзирая, утешении развоплощенья в потоках, а кепочники отвечали: свет, ощущаемый внутренним взором твоим и который ты принимаешь за счет какого-то особого дарователя, это свет твоей личности, Валя.
На беглый прищур, сработанные горбунами уборы не выделялись из общего ряда. Тот же залихватский покрой, размашистость линий, модный фасон, но хозяйский наметанный глаз засек жуткую в своем реализме (ну вот же, все вышло, о, Господи, это сбылось!) мутацию воскресения. Пошитое до горбунов разнилось с предъявленным чудом, как разнится живое и мертвое. Иудей погладил буклевую ткань, ощупал, размял и — прижал кепку к брюшку; она вибрировала, мурлыкала, баюкала, в кошачьем урчании пробивалась ровная линия пульса. Лекарство здоровья, целебная заряженность. В замешательстве, глотая комки, соположил он полученный образец с «аэродромом» из типового, доэпохиального прошлого. Ангел задел опереньем, но не случайно, не прихоть, знали, родимые, чем привлечь, подманить. Шма, Исраэль, сказал он, как бы того не желая, ощущая засасываемость, всхлипывающую поглощенность. И так сказав, был выплюнут, поднят, отнесен вверх, высоко, и свинцовое, пегое, кружащееся вокруг своей оси и против часовой стрелки смерчеподобное бешенство, размахнувшись, бросило его вниз, его, песчинку, его, стремглавный таран, чтобы гулким ударом пробить асфальт, переломить, как соломку, канализационные трубы, — летя с ускорением, упиваясь могуществом в буйном облаке пыли, он обрушивал, крошил подземные этажи числом тридцать шесть, то прямо, то наискось вспарывал их, пока не врезался в последнее дно, дальше которого не было ходу, здесь мир кончался вообще и вотще, в железной, непрошибаемой камере, опрысканной лимонной желтизной.
7.
двое не растревоженных взрывом лежали на застланных металлических ложах тюрьмы. проломленный потолок затянулся под наговором знахаря и вещуньи. опиши сначала его, телепатировал тот, что был слева, ему хуже, давай. можешь начать и с меня, не до цирлих-манирлих; развяжешь язык, а буквы польются, плюскнамперфектно, глазетовый чин, курам на смех, писатель. ужель не строгал предисловий, выразил-отобразил, интересы восходящего класса. он оборвал себя, смутившись неуместного многоречия. земец, интеллигент, инженер. присяжный поверенный, приватный доцент. просится галстук, байковая наклевывается домашняя курточка, разложена рукопись на веранде, ага, по литературной, издательской части. остывает чаек, в хрустальном кругляше папироса, а муху гнать от варенья, и ты уж похлопочи, милый друг, чтобы плотник калитку в заборе приладил, так-то правильней, дорогая. обходительный цинизм и скепсис. второй из начальства, каприз, избалованность себялюбия, такое у теноров, у номенклатуры выродившихся радикальных партий. сдал, похудел, коже на одряблевших щеках и на шее просторно, копна неприбранных волос, которую на митингах, пригвождая матросов, зачесывал назад пятерней. пошло, пошло, каленое, шкуры шипят и потрескивают, разлезается мясо, вплоть до самой кронштадтской кости аргумент. приподнялся на нарах, сел, растирая грудь. стенокардия, одышка, воды и, пожалуйста, дигиталиса. я больше не могу. я отдал ему все, честь, имя, свободу. я оклеветан перед миром и этим ртом съел дерьмо, дайте, дайте еще, орал я по его приказу, вымазываясь. я возвел на себя напраслину, от которой у докеров ливерпуля и издольщиков алабамы вылезали глаза из орбит. но так мы не договаривались, нет, не договаривались, я больше не могу выносить, сказал он, раскачиваясь, еврей на молитве. никто и не требует, сказал первый серьезно, мы не для этого здесь, потерпи. скоро кончится, ждать, по моим расчетам, недолго. обидно, что подмахнули весь вздор, старика бы передернуло, но кто не был с нами, нам не судья. а докеров и издольщиков брось, мы с тобой сроду ни одного не видали, эти фантомы зачаты в твоей бывшей конторе. ливерпуль, алабама, где они, кроме как в наших усохших мозгах. ты забываешь о трибунале истории, сказал второй. мы сойдемся со всеми в общих страницах, две замаранных, отрекшихся гниды, и будем встречены свистом и улюлюканьем. куда деть позор, отвечай. если ты о страшном суде, сказал первый, то критерии его непостижимы. никакой истории нет, история это немецкий профессорский миф, миф профессоров, не нюхавших тюрьмы. трибунал нам не грозит, мы на нем были. помнишь, письмо из егупца в касриловку: погрома не будет, потому что он уже был. опусти веки, появится облако, багровое облако, красная туча, она идет отовсюду, мы дождемся ее. и настанет великая безмятежность, покой, и, отмыв снегом грязь наших имен, мы сложим их в дальний ящик сознания, как взошедший на арарат абовян. загремел ключ, дверь камеры открылась. на букву «з», на букву «к», закричал надзиратель, рыжий, сытый, в пенсне без ободков. с ним были двое солдат. арестанты встали с лежанок. а ты говоришь трибунал, сказал первый второму, попрощаемся, что ж. нет, сказал второй, нет, нет, нет. он упал на колени, выгнул спину, облобызал хромовую стопу надзирателя. я прошу, я прошу, целовал он сапог, пока не был отброшен, солдаты подняли, встряхнули его. не надо, григорий, сказал сокамерник, умрем достойно, как не удавалось быть при жизни. повисла тишина, и можно было бы решить, что старший в охране прорывается в ночь зашифрованных звуков, а рядовые за ним только сейчас учат русский язык. извини, лев, прояснившись, ответил григорий, минутная слабость, волнение, небеспричинное в обстоятельствах, пусть следствие занесет в протокол. я готов. была разительна происшедшая с ним перемена: кончилась бледность, разгладился взор, с митинговою резкостью запустил он пальцы в копну. я готов, повторил григорий. я готов, сказал лев. из камеры их вывели наружу. идите вперед. налево. направо. вниз. подождите. вперед. направо. опять направо. не двигаться. вниз. сейчас они выстрелят мне в затылок, подумали григорий и лев. шма, исраэль, воскликнул торжествующе григорий, как если бы торжеству суждено было его пережить. вспыхнул синий огонь, они перестали существовать.
Канарейкина трель очнула владельца. «Шма, Исраэль», — произнес иудей и выбросил на черный рынок порцию кепок.