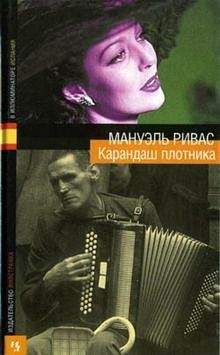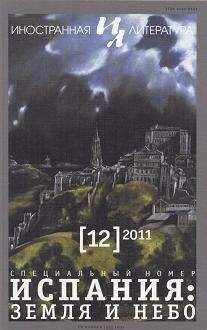Бывает, я просыпаюсь от удушья, и мне чудится, будто мы опять там – стоим на заснеженных рельсах в Леоне. И на нас смотрит волк, смотрит на наш поезд, а я опускаю окошко и целюсь, оперев винтовку на раму, но художник говорит мне:
Эй, что ты делаешь?
Разве сам не видишь? – отвечаю я. Хочу убить волка.
Не порть картину, говорит он. Ведь я так долго и с такими муками рисовал ее.
Волк поворачивается и бежит прочь, а мы по-прежнему стоим в проклятом тупике.
Еще один, докладывает охранник лейтенанту. В девятом вагоне.
Лейтенант чертыхается сквозь зубы, словно столкнулся с невидимым врагом. Когда дело касается покойников, цифра три ему очень даже не нравится. Один покойник – он и есть покойник, и весь разговор. Второй – компания для первого. Ничего особенного, можно не волноваться. Но вот третий… Значит, их наберется целая куча. Проклятая судьба! Лейтенант был еще совсем молодым. И он проклинал это задание, которое к тому же не сулило ни наград, ни славы. Командовать забытым всеми поездом, поездом, груженным тоской, отчаянием и чахоткой, поездом, на который вдобавок ополчилась безумная, озверевшая природа. Нелепые лохмотья войны. Он отогнал кошмарное видение: Я не могу привезти в Мадрид похоронный состав.
Значит, уже третий? Что там, черт возьми, происходит?
Они захлебываются кровью. Они захлебываются собственной кровью во время приступов кашля.
Испепеляющий взгляд. Я знаю, что это такое. И незачем мне объяснять. А врач? Что делает врач?
Он работает без сна и отдыха. Мечется из вагона в вагон. И велел передать вам, что нужно освободить последний вагон – под трупы.
Ну так сделайте это. А мы с ним, он кивнул на Эрбаля, попробуем пешком дойти до распроклятой станции. Предупредите машиниста. Поезд должен тронуться с места, даже если придется кого-то припугнуть пистолетом.
Лейтенант раздраженно выглянул наружу. С одной стороны – белая-пребелая равнина. С другой – замороженные, оцепеневшие составы и ангары, пантеон железнодорожных скелетов.
Здесь хуже, чем на войне!
В этом поезде собрали арестантов, больных туберкулезом, причем в тяжелой форме, из разных тюрем Северной Галисии. В условиях послевоенной нищеты и разрухи чахотка распространялась, как чума, к тому же играл свою роль и сырой климат атлантического побережья. Пунктом назначения состава значился тюремный санаторий в горах Валенсии. Но сперва надо было добраться до Мадрида. В те времена пассажирский поезд мог восемнадцать часов тащиться от Коруньи до столичного Северного вокзала.
Наш поезд назывался поездом специального назначения, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Да уж, специальней не бывает!
Когда заключенные наконец разместились в вагонах, многие из них уже успели съесть свою пайку – банку сардин. Для защиты от холода им выдали по одеялу. Снег пошел, едва они доехали до холмов Бетансоса, и не прекращался до самого Мадрида. Поезд специального назначения прибыл в Монфорте, железнодорожный узел, связывающий Галисию с плоскогорьем, опоздав по крайней мере на семь часов. Но впереди их ожидало самое худшее. Надо было пересечь горы Саморы и Леона. Когда они остановились в Монфорте, уже смеркалось. Заключенные дрожали от холода и лихорадки.
Я тоже окоченел, рассказывал Эрбаль. Мы, отряд охраны, перешли в пассажирский вагон, где имелись сиденья и окна, этот вагон был прицеплен прямо к локомотиву. Наш паровоз еле тянул, словно и он тоже был чахоточным.
Да, я поехал туда добровольцем. Вызвался сразу, как только узнал, что формируется состав для отправки туберкулезников в тюремный санаторий в Левант. Я ведь был в полной уверенности, что страдаю той же болезнью, но скрывал это, избегая медицинских комиссий – без особого, надо заметить, труда. Я боялся, что меня отправят в запас с нищенской пенсией и что я навсегда выпаду из игры. Мне не хотелось возвращаться ни в родную деревню, ни к сестре. С отцом я в последний раз виделся, когда приезжал домой из Астурии. Мы долго переругивались. Я отказался работать, заявив, что у меня, мол, отпуск и потому я имею право на отдых, а он – грубая скотина. И тогда отец непривычно ровным тоном ответил: Я никого не убивал. Когда мы были молодыми и нас хотели забрить и отправить в Марокко, мы убежали в горы. Да, я – грубая скотина, но я никогда никого не убивал. Дай Бог, чтобы в старости и ты смог сказать то же самое! Это был мой последний разговор с отцом.
Что касается поезда, то я, узнав о нем, опять поспешил к сержанту Ландесе, которого к тому времени повысили в должности. Я прошу вас об одолжении, сеньор. Помогите мне перевестись охранником в санаторий. Я хотел бы сменить климат. К тому же туда направляют доктора – помните, того самого доктора Да Барку? Сдается мне, он продолжает поддерживать контакты с Сопротивлением. И я, понятное дело, буду посылать вам донесения.
Лейтенант, Эрбаль и машинист добрались до вокзала города Леона. Снег налип на их сапоги, и, стоя на перроне, они топали, чтобы стряхнуть его. Лейтенант был в бешенстве. Он намеревался отыскать начальника вокзала и устроить ему выволочку. Но из кабинета вышел майор. Лейтенант от неожиданности растерялся и не сразу сообразил, как себя вести. Майор, прежде чем заговорить, строго глянул на него, ожидая предписанного уставом приветствия. Лейтенант щелкнул каблуками, встал по стойке смирно и с механической четкостью отдал честь. Жду ваших распоряжений, майор. Несмотря на холод, лоб у лейтенанта покрылся испариной. Я начальник поезда специального назначения…
Поезд специального назначения? О каком еще поезде идет речь, лейтенант?
Голос у лейтенанта дрожал. Он не знал, с чего начать.
Этот поезд… он везет туберкулезных больных, сеньор. И трое у нас уже умерли.
Поезд с туберкулезными больными? Трое умер ли? Да о чем вы говорите, лейтенант?
В разговор вмешался машинист:
Позвольте объяснить, сеньор.
Но майор резким взмахом руки велел ему замолчать.
Сеньор, вот уже сорок восемь часов, как мы покинули Корунью. Это особый поезд. Мы везем заключенных, больных туберкулезом. И давно должны быть в Мадриде. Но, видимо, произошло недоразумение, какая-то путаница. В Леоне нас пропустили без задержки, но направили на север. И мы несколько часов ехали совсем не туда, куда надо. Поняв ошибку, двинулись обратно. Тут и возникли непонятные проблемы. С тех пор мы стоим в тупике. Нам говорят, что есть и другие спецпоезда.
Да, есть, лейтенант. И вы должны это знать, сказал майор язвительно. Сейчас укрепляется северо-западный берег. Разве вы ничего не слышали о Второй мировой войне?
Потом он вызвал дежурного по вокзалу.
Что там у вас происходит с поездом, который везет чахоточных?
Поезд с чахоточными? Мы пропустили его еще вчера, сеньор.
Произошла ошибка, начал было снова растолковывать лейтенант. Но тут же заметил, что майор, вытаращив глаза, глядит на рельсы.
Прямо по путям, шатаясь, неровно и тяжко ступая по снегу, к ним приближалась группа людей, они тащили на носилках мужчину. Прежде чем мозг успел осмыслить увиденное, Эрбаль догадался, что происходит. Первым шагал проклятый доктор, за ним – два солдата из охраны. Пока они приближались, лейтенант Гойянес старался включить и этот замедленный кадр в цепочку недавних эпизодов. Пылкое объятие на вокзале, которое он, смущенный бесконечным поцелуем, поспешил разрезать своими руками-ножницами, потому что этот поцелуй грозил разрушить некие основы бытия, как землетрясение разрушает фундамент зданий. Затем беседа в поезде, неудачная попытка сближения. Он хотел по-человечески оправдаться, но так, чтобы это не прозвучало извинением.
Ведь кому-то надо было оторвать вас друг от друга. Дай вам волю, все мы так и заночевали бы на вокзале. Хе-хе. Это была ваша жена? Вы счастливый человек.
Он сам тотчас почувствовал: каждое произнесенное им слово имеет второй и очень болезненный для доктора смысл. Да Барка ничего не ответил, словно слышал лишь постукивание колес, которое все больше и больше отдаляло его от недавнего жаркого объятия. Лейтенант позволил доктору занять место в одном с ним вагоне. В конце-то концов, Да Барка ведь тоже выполняет в этой поездке определенные служебные обязанности. Кроме того, им наверняка есть о чем поговорить.
Они вынырнули из большого туннеля, и словно кто-то одним взмахом руки стер городской пейзаж – поезд вонзился в сине-зеленую акварель побережья Бурго. Доктор Да Барка заморгал, как будто от такой красоты у него заболели глаза. Ловцы моллюсков, стоя в лодках, шарили своими раньо [23] по морскому дну. Один из них прервал работу и, приложив ладонь козырьком ко лбу, загляделся на поезд, при этом, несмотря на легкую качку, он твердо держался на ногах. Доктор Да Барка вспомнил своего друга художника. Тому нравилось писать людей, занятых работой – будь то на море или в поле. Главным для него было избежать фольклорных штампов, которые неизбежно превращали подобного рода жанровые сцены в слащаво-приторные открытки. На полотнах друга Да Барки люди становились частью моря или земли. Казалось, лица их избороздил тот же плуг, что и пашню. А рыбаки попадали в сети, которыми ловили рыбу. В какой-то миг фигуры на его картинах начинали дробиться на фрагменты. Руки-серпы. Глаза-море. Лица-камни. Доктор Да Барка почувствовал симпатию к рыбаку, который, застыв в своей лодке, глядел на поезд. Верно, он спрашивает себя: куда это, интересно знать, мчится состав и что везет? Расстояние и грохот колес не позволяли ему расслышать ужасный нескончаемый кашель, летевший из наглухо забитых телячьих вагонов и похожий на монотонный бой кожаных бубнов, пропитанных кровью. Картина за окном разбудила фантазию доктора, подсказав поэтический образ: баклан, что кружит над рыбаком, своими криками – в телеграфном стиле – рассказывает этому самому рыбаку правду о проезжающем мимо поезде. Доктор вспомнил, как огорчался его друг художник, когда перестали приходить журналы авангардного искусства, которые прежде ему присылали из Германии: Худшая из болезней, которыми мы можем заразиться, это затмение совести. Да Барка открыл свой чемоданчик и вынул оттуда книгу в потрепанном переплете – «Биологические корни эстетического чувства» доктора Новоа Сантоса.