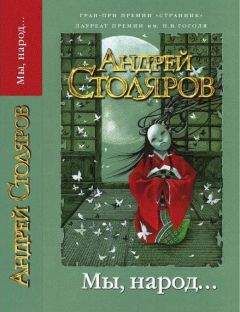К ребенку, родившемуся через год, он ничего особенного не испытывал. Маленькое похныкивающее существо, перетянутое жировыми складочками на локтях, против всех ожиданий оставило его равнодушным. Оно появилось на свет только по необходимости. Это, разумеется, была тоже жизнь, но не та, которую он хотел бы вызвать из небытия. Сердце его билось размеренно и спокойно. Он не чувствовал разницы между прежним и нынешним своим состоянием. Ничего ведь, в сущности, не изменилось. Он, конечно, делал все, что от него требовалось: ходил в магазины и приносил домой многочисленные баночки с детским питанием, почти каждый день, натирая на терке, готовил пюре из фруктов или овощей, также практически ежедневно стирал и гладил груды пеленок, прокаливая их утюгом, чтобы довести до стерильности. Он даже, преодолевая чугунную голову, вставал на плач по ночам, чтобы Мита, умотавшаяся за день, могла бы хоть чуть-чуть отоспаться, а по выходным, опять-таки чтобы ее разгрузить, гулял два часа с коляской в ближайшем саду. Ни упреков, ни раздражения у него это не вызывало. Это были рутинные трудности, которые необходимо было преодолеть. Однако, как только напряжение первых месяцев немного ослабло, едва жизнь упорядочилась и начала возвращаться в обычную свою колею, лишь только наладился быт, теперь по-другому, но все-таки уже давая возможность дышать, как он мягко, но непреклонно отказался от большей части этих обязанностей.
– Теперь – сама. У меня, к сожалению, времени нет.
Мита была не слишком обрадована. Академический отпуск в университете она брать не хотела: отстанешь, потом будет не наверстать. А нагрузка на нее свалилась такая, что она заметно спала с лица. У них впервые вспыхнуло нечто вроде семейной ссоры. Впрочем, до настоящего накала страстей дело все-таки не дошло. Он просто сдержанно выслушал все, что Мита имела ему сказать, согласился, отдавая дань логике, с большей частью ее аргументов, прикинул, чем бы он тут мог ей помочь, а потом отстраненно, точно издалека, глянул на ту, которую сам себе выбрал.
Лицо у него стало непроницаемое.
– Мне надо работать, – тихим, почти бесцветным голосом сказал он.
Голоса он вообще старался не повышать. С тех самых пор, как в жизнь его вошла Мита, он, будто кролик, с тревогой прислушивался и приглядывался к окружающему. Правильно ли он поступает? Не вызовет ли это его движение какой-нибудь новый обвал?
Однако, пока все обстояло благополучно. Танец «хрустальных былинок» в аквариуме продолжался. Они по-прежнему циркулировали от дна к поверхности: распадались, соединялись, искрились, как новогодняя изморозь. Горицвет откровенно сиял и потирал руки. Он считал, что ими получены очень важные результаты. Если ранее они продемонстрировали возможность самопроизвольного возникновения неких «химических организованностей», неких замкнутых «циклов», способных существовать неопределенно долгое время, что впрочем уже было известно: смотри соответствующие работы Клейтера и Манциховского, то теперь они показали, что подобные «циклы» могут при определенных условиях трансформироваться в устойчивую биохимическую среду. Тот же «котел», но только более высокого уровня. Самоподдерживающиеся «облака», «органические локальности», не имеющие четких границ, возникновение которых предсказывал Виттор Шиманис, действительно могут существовать. Природа, видимо, шла именно этим путем.
Арик и сам думал примерно так же. Это был давний, длящийся уже больше столетия спор между эволюционистами и креационистами. Первые полагали, что жизнь зародилась как результат геохимической эволюции: за счет естественного развития базисной планетной «хемиосферы». То есть, это закономерный природный процесс. Вторые же рассматривали ее как акт мистического творения: «искра» в косную, неживую материю была привнесена извне. Теперь эволюционизм получал достаточно убедительное экспериментальное подтверждение, и мировоззренческие последствия этого могли быть весьма велики. Горицвет не зря потирал руки. Правда, следовало еще доказать, что образовавшаяся среда, суспензия «ниточек», вспыхивающих сотнями искр, имеет именно биохимическую природу, что это не дубликат «химических организованностей» Манциховского, что это самостоятельное ранее неизвестное науке явление. И вот здесь возникали прежние трудности. Теми же методами хроматографии, то есть выпаривая образцы и «разгоняя» их на пластинках силикагеля, они, разумеется, могли показать, что некоторые биохимические компоненты в среде несомненно присутствуют: наличествуют там какие-то полисахариды, фрагменты высших спиртов, некие азотистые основания. Однако далее продвинуться было нельзя: требовался профессиональный химик, владеющий специальными методами анализа. А где же такого взять? Тем более, что платить ему за работу они, естественно, не могли.
Одно время он даже рассчитывал привлечь к делу Миту. В конце концов, не зря же она специализируется именно по биохимии. Но нет: здесь нужен был настоящий профессионал. То, чем Мита владела, он вполне мог сделать и сам. К тому же Мита и так уже была на пределе. Глаза у нее непрерывно слипались, щеки подсохли, став будто в пятнышках стеарина. Она просто таяла, вычерпывая из себя жизнь. Нечего было и думать повесить на нее что-то еще.
И все-таки это был результат. Как выразился Горицвет, тут хватит, вероятно, не на одну диссертацию. Во всяком случае, статью они написали очень солидную и подали уже не в «Вестник», который, если уж честно, никто не читал, а в «Проблемы эволюции и онтогенеза». Издание по всем параметрам гораздо более представительное. Бизон без возражений написал им короткое рекомендательное письмо. Правда, Горицвет опять выступал как соавтор. Ну и бог с ним, главное, что дело идет.
Серьезные неприятности обнаружили себя только месяцев через шесть. Выяснилось, что аспирантура, которая была ему почти официально обещана, к сожалению, именно в этом году полностью исключена: планы сверстаны, ставок нет, по крайней мере до осени ничего не предвидится. Оставить его на кафедре практически невозможно.
– Нам дают всего одно место раз в три года, – сумрачно объяснил Бизон, пригласив его к себе в кабинет. – Я тут пытался договориться с кем-нибудь взаимообразно: зачислить вас, скажем, на анатомию, но чтобы работали, конечно, у нас. Потом мы им как-нибудь отдадим. Ничего не выходит: у всех в этом году положение трудное. Не знаю, что вам сказать… М-да… случаются в жизни такие нелепости… – Чувствовалось, что ему от этого разговора не по себе. Он еще больше набычился, до плеч втянул массивную голову. Впрочем, тут же опомнился, выпрямился, величественно тряхнул космами и, поглядев на Арика как будто издалека, предложил устроить его в очень приличную лабораторию. – К самому Навроцкому, если эта фамилия вам о чем-нибудь говорит. Навроцкий, знаете ли, это школа… Правда, у него доктора наук сидят на ставках младших научных сотрудников, однако, если я попрошу, место технического работника, скорее всего, найдется. Подумайте, – сказал он, вероятно, не чувствуя энтузиазма.
– Хорошо, я подумаю, – ответил Арик.
– Учтите: скоро распределение…
Ничем не утешил и Горицвет, к которому он немедленно обратился. Горицвет был, кажется, искренне удручен этим тупиковым раскладом, объяснил, в свою очередь, что пытался кое-что предпринять, разговаривал кое с кем, ничего конкретного не добился. Ты же знаешь нашу систему: ставка может образоваться, только если кто-нибудь уволится или умрет. Не дай бог, конечно…
Он быстро-быстро почесал нос.
– Что же мне делать? – сдавленным голосом спросил Арик.
– Ну, подожди-подожди, вдруг как-нибудь утрясется…
Это была просто чудовищная несправедливость. Почему именно с ним? Почему именно в этом году все так неудачно сложилось? Не в прошлом, не в позапрошлом, не в будущем, не через несколько лет? Или все-таки с Митой была допущена непростительная ошибка?.. О лаборатории Навроцкого он, разумеется, слышал. Это была, наверное, одна из лучших медико-биологических лабораторий страны. В очереди туда стояли по три – по четыре года, и при других обстоятельствах он почел бы за счастье оказаться в числе избранников. Но ведь Навроцкий не даст ему продолжить эксперимент. У Навроцкого свое направление, связанное с изучением ранних стадий эмбриогенеза. Вот к чему-нибудь такому его скорее всего и привинтят. Посадят, например, подсчитывать по стадиям активность ферментов. Благо он эту методику изучил. И что тогда? Тогда здесь все постепенно протухнет. Хуже того – окончательно и бесповоротно достанется Горицвету. Через пару лет никто уже и не вспомнит, с чего все начиналось. Да и зачем вспоминать? Это – жизнь, она, как ластик, стирает любые избыточные подробности.
Из кабинета Бизона он вышел в полном отчаянии. У него ныло сердце и самым позорным образом щипало под веками. Он был рад, что может укрыться ото всех в своем закутке. Знакомая обстановка действовала на него успокаивающе. Посапывал компенсатор, нагнетающий внутрь восстановленного колпака смесь сернистых газов, пощелкивали реле, поддерживающие в заданных пределах температуру, журчала вода, текущая в раковину из «обратимого холодильника». А в центральном аквариуме, подсвеченном с двух сторон овальными, с рукоятями, как половинки груши, рефлекторами, белел туманом раствор, как раз в последние дни приобретший большую, чем раньше, прозрачность. Даже без оптики были заметны в толще его сотни танцующих искорок. Они вспыхивали то рубиновыми, то синими, то зелеными волосинками, на мгновение угасали и снова вспыхивали, уже немного переместившись. Словно бесшумный новогодний буран неистовствовал за стеклом. Количество странных «ниточек» продолжало расти. Процесс еще не закончился, можно было ожидать новых открытий. Неужели со всем этим придется расстаться?