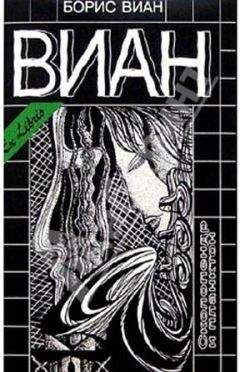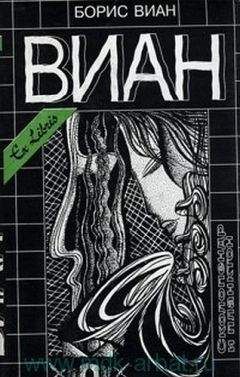Зал постепенно пустел. Майор подождал, пока все выйдут, и направился следом за шефом на седьмой этаж Консорциума.
— На него жалко было смотреть, — с некоторым сочувствием в голосе сказала Зизани.
Дело было в тот же день после обеда. Майор со своей подружкой расположился в логове Полквоста, ушедшего играть в манилыо.
Майор дрожал от возбуждения. Он выиграл схватку и теперь рассчитывал извлечь из этого выгоду. Все говорило о том, что Полквосту волей-неволей придется признать его заслуги. Так что в эту минуту ему было начхать на Провансаля.
— Он сам нарывался! — сказал Майор. — Будет знать, как ставить мне палки в колеса, воняка фигакова.
Индийские слова, которыми Майор уснащал свою речь, служили для Зизани неистощимым источником веселья.
— Не будь к нему так суров, милый, — сказала она. — Помирись с ним! В конце концов, он устраивает сабантуи.
— Я тоже устраиваю, — возразил Майор, — и я намного богаче него.
— Ну и что, — промолвила Зизани, — не по душе мне все это. Сам по себе он парень ничего.
— А ты почем знаешь? — поинтересовался Майор. — Ладно, так и быть, раз просишь. Сегодня же приглашу его на завтрак. Довольна?
— Но сейчас три, ты уже завтракал…
— Вот именно, — отрезал Майор, — как раз проверю, согласен ли он на мировую.
Он связался по телефону с Провансалем, и тот тут же принял приглашение. Провансалю тоже не терпелось поскорее уладить размолвку.
Майор назначил свидание в половине четвертого в баре, куда он обычно ходил. Они пришли одновременно—в четыре.
— Две стофранковые порции «Гималаев», — заказал Майор, протягивая кассирше талоны на хлеб и деньги.
Провансаль хотел было за себя заплатить, но Майор испепелил его взглядом. Между его левой рукой и полом пробежала искра, и он вытер пот шелковым платком.
Они уселись на высокие табуреты, обитые «чертовой кожей», и занялись мороженым.
— Думаю, нам сподручнее перейти на «ты», — с места в карьер начал Майор. — Что ты делал после обеда?
Вопрос задел Провансаля.
— Не твое дело! — буркнул он.
— Не кипятись — сказал Майор и с необычной ловкостью вывернул ему левое запястье. — A ну говори!
Провансаль издал пронзительный вопль, пытаясь, однако, выдать его за кашель, так как все в кафе повернулись в его сторону.
— Я писал стихи, — признался он наконец.
— Ты любишь стихи? — удивился Майор.
— Очень… — простонал Провансаль.
Он восторженно возвел глаза к потолку, его кадык ходил туда-сюда, как поплавок в волнах.
— А вот это тебе нравится? — спросил Майор и задекламировал
Зловещий ветер свой завел напев,
Закатной смерти в такт…
— Невероятно! — зарыдал Провансаль.
— Ты не слышал эти стихи? — осведомился Майор.
— Нет! — всхлипнул Провансаль. — Я читал лишь один разрозненный том Верхарна.
— И все? — спросил Майор.
— Я никогда не задумывался, есть ли другие… — повинился Провансаль. — Я не любопытный, да и не особо деятельный… Но я тебя ненавижу, ты отбил у меня любимую девушку.
— Покажи, что ты там написал, — приказал Майор. Провансаль робко вытащил из кармана листок.
— Читай! — скомандовал Майор.
— Я стесняюсь!
— Тогда я прочту сам! — вызвался Майор и хорошо поставленным голосом начал:
НЕОБЫЧНЫЕ НАМЕРЕНИЯ Человек сидел за столом
И писал, в бессилии злясь.
Постепенно страницу белую
Покрыла словесная вязь.
Вот наконец и все.
Нажал на кнопку звонка.
Посыльный в фуражке.
Скорей! Вот деньги! На телеграф!
По ступенькам то вверх, то вниз.
Теперь ногой па педаль.
Тормоз. А вот и окно.
Вот бланк. А теперь домой,
Деньги держа в руке.
И километры пути
Вверх-вниз, что твои шаги.
Вдоль поездов, земли.
И все же не как шаги.
Путь длинен по проводам.
Как пленников, гонят вдаль
Слова от столба к столбу.
Не дай Бог, столбы упадут.
И множество долгих верст
За краткий единый миг
— Катушкам спасибо скажи,
Что держат слова в плену.
А тот, кто их написал,
Сидит с сигарой во рту,
Теребя газету рукой.
Ах, версты, версты пути,
Звеня кандалами, брести,
Где дроссель — как надзиратель,
Где слово, как мышь на дне
В синем кувшине медном.
Сигара меж тем догорела.
Волнение прочь. Вот-вот
Получит он весть от Дюдюль.
— Неплохо, — заметил Майор после некоторого молчания. — Но ощущается влияние прочитанных книг. Вернее, книги. Томика Верхарна.
Ни Майор, ни Провансаль не обращали внимания на то, как засуетились официантки, как столпились они за стойкой бара, чтобы лучше слышать.
— Ты тоже стихи пишешь? — спросил Провансаль. — О знал бы ты, как я тебя ненавижу!
В отчаянии он ломал себе ноги.
— Сейчас прочту одно стихотворение, — сказал Майор, — а ты послушай!
Майор снова задекламировал:
I
Беретка набекрень, штиблет зеленый лак,
от фляжки коньяка топорщится карман,
красавец и поэт, с утра до ночи пьян,
кутил по бардакам распутник Арманьяк.
Южанин и француз, он свет увидел там,
где пахнет чесноком и купол голубой.
Итак, он был поэт, притом хорош собой,
а значит, ни к каким не склонен был трудам.
Пятерке шустрых дев доверил тело он,
а духом воспарял и вызов слал в века:
кропал себе стихи под сенью погребка,
где всякий нос блестящ, а разум притуплён.
Его мужской приклад, налит тугим свинцом,
исправно по ночам обойму разряжал.
Как жаркий жеребец, он всепобедно ржал:
семнадцать раз подряд — ни разу в грязь лицом!
II
Увы, гнилой упырь, угрюмо устремя
на Арманьяка взор, в котором жизни нет,
зеленый вурдалак, вошел, когда поэт
— о высший пилотаж! — овладевал тремя.
Ужасна сила зла, когда, исполнен сил,
в минуту пылких игр ты разом свален с ног
Несчастный Арманьяк не закричать не мог:
так сифилис его внезапно подкосил.
Отнялся всякий член — такие вот дела!
Еще он бормотал, пуская пузыри…
Вот выпало перо… Снаружи и внутри
был паралич… Но нет! — надежда в нем жила.
Он мог еще спастись! И день, и ночь подряд
сиделки и врачи в него втирали мазь,
и адский инструмент кипел, в котле варясь,
чтоб вену исколоть и обезвредить яд.
III
Но в черепе глухом стихов сплошной клубок,
что выхода не мог найти из тупика
— поскольку наш поэт лишился языка,
— закопошился вновь, всеяден и жесток.
Александрийский стих в двенадцать злых колец
и восьмисложный ямб, свивавшийся в бреду,
и прочая напасть — и все, как на беду,
плодились и ползли, вгрызаясь под конец
в разгоряченный мозг, что болью обуян, —
глаза рептилий-рифм глядят из темноты,
они огнем горят и кровью налиты —
и вот от корки мозг очищен, как банан.
IV
Поэт еще дышал. Прозаик до утра
не дожил бы, когда б сожрали мозг враги.
Поэт — всегда поэт, на что ему мозги?
Он может жить и так. К тому же доктора
терзали полутруп, вводя в него иглу.
Но плотоядный стих знай грыз его и грыз,
плодился и крепчал. Вдруг мышцы напряглись,
и бедный Арманьяк задергался в углу,
забился, захрипел и замер, как мертвец.
Попятились друзья, решив — его уж нет,
в злодействе обвиня невинных спирохет,
но вот один из них решился наконец
и руку приложил он к сердцу мертвеца. О ужас!
Что-то там, в груди, еще жило!
Он поднял простыню и охнул тяжело:
то был гигантский червь, глодающий сердца!
Голос Майора постепенно затихал, усугубляя ужас последних строк. Провансаль, рыдая, катался по полу. Официантки, как мухи, одна за другой попадали без чувств. К счастью, посетителей в этот час было кот наплакал, и двух машин «скорой помощи», вызванных Майором, хватило, чтобы увезти всех пострадавших.
Разве так можно!
Провансаль обхватил голову руками и стонал, ерзая животом по опилкам. Он настолько обслюнявился, что походил на слизняка.
Майор, тоже слегка растроганный, помог своему сопернику встать.
— Ты все еще меня ненавидишь? — тихо спросил он.
— Ты мой учитель! — произнес Провансаль.
Он поднял соединенные в виде перевернутой чаши руки к темечку и повергся ниц, выражая почтение на индусский манер.