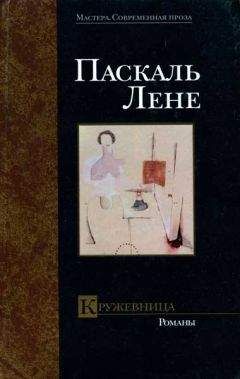Она приехала ко мне, окинула взглядом номер и сказала, снимая пальто:
— В сущности, ты здесь неплохо устроился.
Она пожелала тотчас заняться любовью, поскольку ей известно, что после ужина мне грош цена. Я тоже был не прочь заняться с ней любовью. Во всяком случае, я этого хотел, пока она не отпустила это свое «ты здесь неплохо устроился». Но теперь она была мне противна. Мне было противно ее тело. Она явилась, чтобы одарить меня милостыней своих ласк, продуманных, как и все в ней; и, поскольку не следует внушать своим беднякам дурных мыслей, она сказала, что, в сущности, я мог бы и обойтись без этой милостыни; что не так уж мне плохо, что на моих стенах, на моем окне, на моем столе, на моем лице она не прочла моего одиночества. Это она-то, которая и трех дней не прожила бы тут. Она, которая только и умела, что презирать и эти стены, и этот стол, и голую женщину в рамке, и, возможно даже, мою физиономию.
Так что я сам подал ей милостыню своих ласк, своей плоти. И потом ничего не сказал. Не сказал, главное, что я думаю о ее наигранно хорошем настроении; в тот вечер я не сказал ей, что думаю о мерах предосторожности, принятых ею, чтобы не проговориться, не ляпнуть, чего не следует, ни о гостинице, ни о ресторане, ничего такого, что могло бы меня ранить. Я позволил ей остаться при убеждении, что из нас двоих тяжелобольной — я, я тот, кого следует щадить. Я и впрямь был болен; но не была ли еще серьезней больна она сама, с ее приглушенным хихиканьем, с ее тонкими шуточками в адрес неповоротливого метрдотеля, с ее манерой многозначительно наступать мне на ногу под столом, строить глазки и жеманничать, повергавшей меня в ужас, с ее игрой в «свадебное путешествие», которое забросило нас в этот гадкий провинциальный отель, но уже завтра мы будем в Венеции, и поэтому ничто не мешает нам теперь забавляться, разглядывая всех этих несчастных, всех этих бедолаг, не умеющих жить, то есть всех других, всех остальных.
Следовало бы ей изменить, бросить ее. Но это мне не удастся: я знаю, что, если брошу ее, стану скучать по ней; злиться на себя за то, что ее бросил: брось я ее, верх взял бы ее образ, а этот образ я люблю. Не так-то все просто; лучше уж пусть она меня бросит; чтобы мне не в чем было потом себя упрекать. Пока что я ей изменяю. Вернее, нет, это не называется изменять. На выезде из города есть что-то вроде кабаре. Я иногда заглядываю туда около полуночи; встаю с постели. Если вино, усталость и скука не сморят меня тотчас после ужина, мне не хватает мужества проделать в одиночестве переход в завтрашний день. И вот я встаю с постели и направляюсь к этому кабаре, которое известно всему Сотанвилю, но о котором не принято говорить вслух, потому что там есть две-три девушки, приглашающие вас выпить рюмочку по дешевке. Людей из приличного общества там не встретишь, только таких, как я, коммивояжеров. Как-то вечером, очевидно из чувства жалости, метрдотель дал мне этот адрес. И теперь я довольно охотно хожу туда; в такие ночи я ложусь спать позднее обычного, переход укорачивается; иногда и вовсе не ложусь. А на следующий день, к пятому, шестому уроку говорю себе, что никогда больше не пойду в это кабаре: язык у меня заплетается, и мои подкашивающиеся ноги корят меня самым искренним, но быстро преходящим образом.
Я мог бы изменить сиделке с одной из моих коллег или, скорее, если бы я набрался мужества, с одной из продавщиц в книжной лавке Куаньяра; это студентка философского факультета; она спрашивает у меня советы, я их даю, к тому же она мила, у нее узкие плечи, чуть-чуть слишком широкие бедра. Мы уже совершали с ней прогулки в лес Эрувилетт. Она рассказывает мне о своей жизни, я выдумываю о своей. Наши ступни утопают в подушках мертвой листвы; я держу ее за руку, иногда обнимаю за талию. Я ничего не испытываю. Ничего, кроме колкой услады холодного воздуха, наполняющего легкие. Приходится пролагать себе путь в зарослях кустарника; я широко шагаю, таща за собой подпрыгивающего, смеющегося зверька, который время от времени скулит, что я не придерживаю ветви и они бьют по лицу.
Я одержал победу. В техникуме вышел первый номер журнала.
Вот оно орудие, которое я так долго искал, уловка, разрешающая им наконец высказаться! Нужно, чтобы они заговорили? Так вот, они — пишут! И не так уж плохо в конечном счете.
Как-то утром я заговорил с ними об этом журнале; я сказал:
— Он даст вам возможность общаться друг с другом и даже с внешним миром, высказать то, что вас заботит, о чем вам хочется сказать.
Я отнюдь не был уверен, что у них вообще есть желание о чем-нибудь сказать. Но вот назавтра трое, четверо, шестеро приносят мне с таинственным и робким видом: один — стихи, другой — заметку в рубрику «Свободная трибуна», кто-то — рассуждения о моде, кто-то — составленный им кроссворд… Не могли же они сделать это за одну ночь: значит, это лежало где-то, в ящике стола, в недрах портфеля, меж страниц книги; спало, но существовало: они писали стихи, мои неграмотные ребятишки!
И я оказался прав — им есть что сказать, у них даже есть для этого средства: нужен был только случай, только право; и это право дал им журнал. И они ждали этого права, даже не питая на него надежды, — ведь стихи уже лежали, ведь лирический порыв уже излился на клочке бумаги и сейчас, едва представился случай, был лихорадочно переписан набело! Этот клочок бумаги, может, так и провалялся бы всю жизнь понапрасну, не приди мне в голову, сам не знаю как, мысль предложить им выпускать журнал!
На последнем рубеже малодушия, на последнем рубеже сомнений я, может, наконец обнаружил, что на что-то все-таки гожусь; значит, в мире все же существует место, принадлежащее мне, и я наконец нашел его. Так после нескончаемых блужданий и зигзагов находит свой номер шарик рулетки в казино. Может, я все-таки не окончательная пустышка.
Вышел первый номер журнала. Директор вызвал меня к себе в кабинет. Прежде всего он несколько натянуто поздравил меня с проявленной инициативой: весьма похвально, что преподаватель приобщает учеников к широким интересам, побуждает их к активности, которую можно расценить как «культурную», — вопросительный взгляд.
Я отвечаю, что весьма тронут сочувственным отношением руководства к моему начинанию, которое я в свою очередь расцениваю как культурное, мечтая, чтобы на этом и завершился наш обмен любезностями.
Но это еще не все, за поздравлениями следуют советы, пожелания; почему бы не поручить руководство этим журналом «общественно-воспитательному центру» техникума, председателем которого является директор? Это избавит меня от бремени, по всей вероятности весьма нелегкого, не так ли?
— Почему же нелегкого? Ученики все делают сами.
— Тем оно серьезнее. Не забывайте, — говорит мне директор, — что молодым людям предстоит экзамен. Учеников необходимо занять, приучить к ответственности; все это прекрасно. Но не следует отвлекать их от основной задачи.
Тут я полностью согласен с директором, разумеется! Но как в таком случае поступить с журналом? Бросить эту затею?
Напротив, дают мне понять. Журнал необходимо расширить; открыть его рубрики родителям учеников, преподавателям, руководству. Несколько страниц, естественно, останутся ученикам. Но в их возрасте самое важное — это ведь получать советы, идеи, не так ли?
Значит, тут все дело в возрасте! Возможно. Я не отвечаю. Мне нечего ответить. А директор, чувствуя какую-то неувязку, снова переходит в атаку: он поговорит обо мне с инспектором округа, прельщает он; даже представит меня ему; мне будет весьма полезно, если тот познакомится со мной и узнает, сколь ревностно я отдаюсь воспитанию моих учеников, не так ли?
Так вот, нет! Пусть он катится подальше этот директор вместе со своей округлой улыбочкой, наподобие «академических пальм», со своими посулами квартиры в стандартном доме, со своими сюрпризными коробками, полными гладильных досок! Меня на эту удочку не возьмешь.
Вам не по нутру, что я даю ученикам возможность высказаться. Это не предусмотрено! Так не делается! Вы хотели бы, чтобы они занимались философией, потому что философия придает вес образованию, в особенности техническому она полезна! Но она не должна внушать им идеи, намекнули вы мне, когда я прибыл в ваш техникум, не произнося этого вслух, по своему обыкновению, старый вы хитрец! Ну так вот, философией они занимались не слишком, но некоторые мысли она все-таки у них пробудила. Неплохие мысли! Вам тут нечего возразить, что вас и злит. Но ведь мысли, как ни крути? А мысли — дело темное: как знать, куда они могут завести.
Теперь вам хотелось бы взять мысли под свой контроль, так же как и все, что происходит в техникуме: внешний вид учащихся, посещаемость, нравственность, чтение, все вплоть до месячных у девушек, а почему бы нет?
А я этого не хочу; журнал, в порядке исключения, вам не захватить в свои руки, вы и носа в него не сунете: в порядке исключения, вам придется на сей раз промолчать и предоставить слово тем, кого слишком уж легко, на мой взгляд, притесняют под флагом образования. Значит, война? Ну и пускай! Война так война. И мои ученики должны знать, что, едва я вознамерился предоставить слово ученикам-котельщикам или секретаршам, нам была объявлена война.