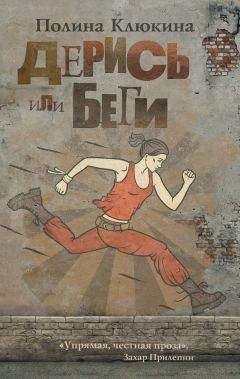— А как вы думаете, Иван Михайлович, в чем?
Рыжая прядка волос вдруг рассыпалась по щеке.
— Ну… ты, наверное, материал еще не освоила, приходи, что ли, ко мне завтра. Позанимаемся. Дам тебе интересные книги, которых нет в библиотеке, у меня, например, Лобачевский есть, «Воображаемая геометрия», хочешь?
— Да.
— Ну, вот и приходи.
На следующий день вечером, когда жена Ивана Михайловича была отправлена в срочном порядке на дачу, Настасья пришла в гости к Бегленко. Дрожащими пальцами с отросшими по невниманию ногтями он разорвал конфетную обертку и заварил травяной чай. Вылавливая плавающие соломинки, он нервически ерзал на стуле и вскакивал, когда на площадке раздавался звук шагов.
— Любите донник, Настасья?
— А что это?
— Это то, что мы с вами сейчас пьем.
— Ну, пока мне нравится.
— Душица еще свежая есть, если захотите.
Настя закрыла рот ладонями, сдерживая смех, и окунула в желтоватый раствор конфету.
— Так это все глупо, Иван Михайлович!
От неожиданности Бегленко встал.
— Что? Что глупо, Настя?
— Иван Михайлович, Наста-а-асья!
— Да, прости, Настасья, что глупо?
— А пойдемте в комнату! У вас фотографий, наверное, много. Покажете?
Всю неделю Настя брала и возвращала Бегленко книги. На занятиях по математике она теперь почти не появлялась, а когда появлялась, то открывала маленькие томики Шекспира и с загадочной улыбкой изредка взглядывала на доску.
Каждый вечер она поглощала шоколадные фигурки вместе с занимательными историями о первых влюбленностях Ивана Михайловича и все удобнее устраивалась на жаккардовом диванчике среди алых подушек.
К среде дача Ивана Михайловича была убрана, и на кухне опять появилась супруга, окутанная кухонными ароматами. С ее приездом встречи Бегленко с Настасьей перенеслись в индустриальные райончики Москвы, и с каждым свиданием теплотрассы становились все роднее, а дым заводов даже придал трагичности их роману.
— Мой первый поцелуй произошел в семнадцать лет…
— Ух ты, как поздно-то!
— Да, позже, чем у ребят из двора, зато это было откликом настоящих чувств.
— И где? Где-нибудь в подъезде?
— Нет, ну что ты! Мы были в экспедиции с классом, ходили в горы и там, среди скользких промерзлых камней, я ее поцеловал.
— А что за девочка была, красивая?
— Не то слово! Зеленоглазая, с такой славной привычкой поправлять волосы. Я, когда с ней разговаривал, всегда следил за движениями ее пальцев.
— Романтика!
— Да, тогда я даже думал, что на ней женюсь.
Настя с усмешкой посмотрела на зацветший красным нос Бегленко и поцеловала его в третью от седых бровей морщинку.
— Чего ж не женился, Ромео?
— Рано слишком было, семнадцать лет, куда там!
— Рациональный подход?
— А как иначе.
— Тогда не любил, значит.
— Ничего это не значит.
Бегленко молча быстро расстегнул Настасьину болоньевую куртку.
Проходили недели. Стекловата труб, на которую ежедневно клался портфель Ивана Михайловича, все больше протиралась и уже к Новому году в некоторых местах совсем разлетелась, смешавшись с крупными рифлеными хлопьями снега.
Первого января Бегленко решился, закончив росписи в ведомостях, запереть Настю в кабинете и открыть ей все изводящие его мысли:
— Настасья, девонька моя, я, я… я понял, что не люблю свою жену. Встреча с тобой — это рок, я люблю тебя.
— Ты дурак?
— Я? Я? Да, я бешеный и влюбленный мужчина! Настась, а хочешь, прямо сейчас подадим заявление?!
— Точно дурак.
— Показать тебе, что ты со мной сделала? Сейчас возьму и выкину вот эти вот книги?!
Он схватил портфель, из которого выпали две бордовые методички, и запустил им в голубя.
— Ну как? Ты это видела? Я люблю тебя, Настасья!
— Слушай, я домой, пока ты не порвал свой паспорт.
Иван Михайлович поднял портфель, обтер его темным уголком носового платка и пошел следом за возлюбленной.
— Настасья, подожди! Насть, у меня печень закололо бежать за тобой! Стой!
Настасья, не оборачиваясь, догнала уходящий троллейбус, вскочила на ступеньку и подчинилась двери, впихнувшей ее в репродукцию «Похороны сардинки» Франсиско Гойи.
В течение ночи Бегленко то взбивал подушку, то пил теплое молоко, как учила его мама в детские редкие часы бессонницы. Утро он встретил на балконе, наблюдая за тем, как в доме напротив мужчина в красных плавках обдирает обои. Звуки шпателя разносились по всей улице, и, когда у Бегленко уже не осталось сил с ними бороться, он вышел на балкон. За собою он вытащил кудрявый телефонный провод и уселся на полу звонить Настасье.
— Але! Але! Я понял, Настя!.. Прости, Настасья то есть, ты боишься моей жены, да?
Ответа не последовало, и Бегленко тут же вбежал в кухню, зачесывая волосы:
— Не хочу сегодня каши на завтрак!
— Заболел никак?
— Да! Я люблю другую.
Супруга бросила кастрюлю с кашей в раковину и побежала в ванную.
— Мне умыться надо, слышишь? — крикнул ей Бегленко.
Спустя сорок минут на холодильнике появилась записка:
«Ванечка, я всё обдумала. Это твоя жизнь, тебе решать, только помни, умоляю, что я не смогу без тебя. Рвешь ты мою душу на мелкие кусочки. Вань, я твоя, но только душой, тела наши теперь в раздоре. Не жить нам больше с тобой одной жизнью! Ты причинил мне боль, Ваня. Прощай.
Забыла еще: раз уж каша испорчена, поешь вчерашнюю, только убери в холодильник, а то прокиснет».
Дочитав записку, Бегленко опрыскался духами и понесся к Насте. На пороге его встретил зевающий студент в пятнистых шортах.
— Ой! Здрасте, Иван Михалыч!
— Настю Мухину позови.
— А она спит еще.
Настя с распушенной копной волос появилась позади.
— Что еще, Иван Михайлович?
— Так… как это…
— А вот так.
Дверь закрылась. Полтора часа Бегленко просидел на лестничной площадке, то поглаживая, то выдергивая лепестки герани, непричастно стоящей на подоконнике, и все повторял: «Наста-а-асья, ну что же ты делаешь? За что? Я же с женой ради тебя…»
Следующий семестр начался с брызг и всплесков и бурного обсуждения студентами слухов о нелепой смерти Грымзы. Кто-то говорил, что произошел обрыв стрелового каната недалеко от районных теплотрасс и стрела упала прямо на него, кто-то добавлял: «Он сутки пролежал в снегу живой, но были праздничные выходные и никого, кроме голодных собак, рядом не было».
Из желтых домов доносились вопли. Колючка по периметру, «реснички» на небольших окошках. С внешней стороны — серая обрюзглая стена, со двора — серая обоссанная.
Молоденький конвоир смотрел в камеру и ломаной зубочисткой счищал с ногтей куриную кожицу. Он слушал вопли роженицы и сам периодически постанывал, когда деревянный кончик соскальзывал и зацеплял заусеницы.
Вскоре, когда «мамочка» разродится, он собирался запихнуть ее в автозак и вернуть в общую камеру. Затем взять следующую и проделать все то же самое: надеть на нее наручники, пристегнуть к гинекологическому креслу и уйти обратно к себе в будку слушать очередные вопли и доедать курицу.
Еще год назад Степашка вскрывал животы лягушкам. В маленькой лаборатории он расправлял им конечности, погружал в ванночку и, оттянув пинцетом брюхо, надрезал его скальпелем. А теперь он, выпускник института, стал врачом медчасти колонии строгого и особого режима.
Успели побывать у него всякие: и с ожогами на полрожи, и те, кто пытался косить от работы, запихнув в глотку толстенный гвоздь. Степаша научился оперировать и тех и других, прощаться и с теми и с другими.
В то утро Степаша приехал на работу поздно. По дороге его догнал серый автозак с обгаженным кузовом, с комами грязи по всему его периметру и толстенными от глины колесами. Тут же из машины вылез высокий конвоир. Потирая глаза, он тащил очередную роженицу. «Давай, мамочка, иди уже!» Тощая, да к тому же в своем длинном зеленом плаще Ира походила на саранчу. Согнутые в коленях сухощавые ноги запинались о землю, разгибались и вышагивали вперед. «Давай!»
— Степан Степаныч, вот эта сразу из бани.
— Веди-веди.
— Вытащили ее с душа и к вам сразу.
— Веди, говорю.
Баня здесь была занятием долгожданным. Громкое объявление сгоняло в табун всех зеков, гнало их по длинным коридорам, затем раздевало догола и вталкивало под кипяток. Тошнотный, мерзкий запах растекался по всей душевой, а затем по полу начинали скользить бурые обмылки. Эти моменты можно было сравнить с перерождением и новой жизнью. Пускай недолгой, всего в двадцать минут, но после такого не жалко было и умереть.
Хрустнул замок, Степашка застыл в ожидании. Ира стянула плащ, затем развязала узел, сняла шаль, съежилась и присела на стул.
— Гражданин начальник, я не успела домыться, холодной не было, а тут еще эти схватки…