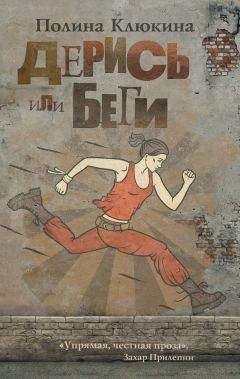— К чему это вы?
— Грязная. Грязная я. Одежда вся…
Не успев закончить фразу, Ира скрючилась и застонала.
— Дышите, мамочка, глубоко дышите.
Лязганье шпингалетов предупредило приход конвоира. В комнату вошел высокий человек, шустро потирая макушку, он что-то бубнил и глядел в пол.
— Вы, это, Степан Степаныч, вы позовите меня потом, кликните. А то я тут отошел на минутку. Она ж долго тут будет: пока разродится, пока чё…
— Позову.
— Ой, вонь какая от нее. Парашей за километр прет.
Ира крепко сжала колени и уставилась на доктора.
— Иди отсюда, сказал, позову. А ты ложись давай на кушетку, как звать, живот когда опустился?
— Ирина. Два дня назад. Вы верьте мне, я-то знаю, я рожала уже.
Через двадцать часов, когда Степашка мастерски извлек предлежащего плечиком младенца и избавился от последа, Ира выпрямила сухощавые ноги и потянулась к доктору.
— Дайте, я буду кормить сыночка.
Степаша взял младенчика на руки и стал мерно, в такт каждому слову, его укачивать.
— Не положено, мамочка. Ради бога простите, но не положено. Сейчас конвоир за вами явится, мне его уже звать надо.
— Дайте мне его! Дайте мне сына!
— Тихо! На минутку. Быстро. Покормить все равно не успеешь, подержи хоть.
Первое, что увидела Ира, полгода назад прибыв в камеру, — железные чаны с объедками. На донышках копошение и вьющиеся хвосты крыс, огибающие окружность дна.
Их ежедневно привозили на скрипучей тележке, она катилась по продолу и оставляла их вместе с баландой. Затем тележка пустела и медленно, будто с больным и натужным хрипом, двигалась на свободу.
Для тех, кто сидел здесь уже не первый год, возня эта, скрип и даже решетки стали привычными. Им хватило желтой «царапины» дневного света, чтобы свыкнуться и понять — такова разновидность жизни, она есть, но она чуть у´же. Они слюбились с липкими от пота подушками, слюбились с парашей, что периодически с дуновением ветра выдыхала у них в камере, они спокойно смотрели на себя в язвах.
— Вам отказную придется писать, слышали о такой?
Ира обхватила младенчика обеими пятернями, и крошечное тулово тут же спряталось под теплым байковым рукавом.
— Не буду, не буду ничего писать. Разрешите я его покормлю, а?
— Не успеете. Придется писать, вам возвращаться в камеру через пару минут. Ну куда вы его, с собой на нары?
— Покормлю разочек, и всё.
Степаша посмотрел в окно, затем сел на соседнюю кушетку и, прижав ладони к лицу, будто молитву, стал что-то нашептывать.
— Ждите. Ждите, придумаем… Нет, давайте-ка поезжайте от греха подальше, сейчас эта «шпала» придет… Он обязательно настучит… он настучит точно…
— Да дайте же мне его покормить, наконец! На, малюта, на грудь, ешь… ешь давай.
— Ну что же вы делаете-то, а?!
Степан Степаныч подскочил и стал наматывать круги возле кормящей мамочки, стыдливо пытаясь приноровиться и взять новорожденного.
— Вы меня под уголовное толкаете, какого ж черта?!
И, как только Степашка закончил фразу, за дверью послышалась быстрая поступь конвоира. Через минуту он был уже в кабинете, начал снова принюхиваться.
— Степан Степаныч, ну чё, всё?
Конвоир тихонько закашлял и в ту же минуту попытался чихнуть.
— Выйди отсюда.
— Так какого хера, мне скоро следующую везти!
Степаша занервничал и стал закрывать кушетку деревянной ширмой, она стояла здесь для особо сложных операций, для сокрытия мертворождений, но куда больше она походила на кукольный театр с белым занавесом. Ира прижалась к доктору и, уткнувшись ему в правый бок, стала тихонько постанывать.
— Поди давай, температура у младенца, пускай она кормит его пока!
— Какая температура, мне следующую надо везти!
— Вали, я сказал!
Скоро в комнате наступило безмолвие. В этом покое, где оставался один только лишний звук — бренчание неугомонных наручников, наконец появилось причмокивание. Это был главный и чуждый здешним местам плач новорожденного, убаюкивающий и одновременно будящий звук маленького человека, с первых минут попавшего под конвой.
— Спасибо вам, Степан Степаныч.
— Давайте пока так, я буду настаивать, что у него температура. Покормить времени хватит.
— Спасибо…
Степаша попытался отодвинуть ширму, но Ира вдруг взяла его за руку.
— Оставьте, пожалуйста. Так спокойней.
— Пока я разрешения не дам, вас никто не тронет.
— И вы с нами посидите, ладно?
— Посижу. Вы ведь понимаете, что я иду на должностное преступление, не смейте только привыкать к ребенку. Я дал возможность покормить — это святое право каждой матери, а вот воспитывать вам его никто не даст. Так что, пожалуйста, без истерик, тут такое право совсем не действует. Мамки не могут воспитывать детей там, где отбывают наказание…
— Знаю. Зато я смогу жить в доме матери и ребенка.
— Какой бред!
Степаша убрал руку, придвинул стул к кушетке и сел ближе.
— Да нет в нем места для матери. И это никакой не дом — конура, и то слава богу. Вам, конечно, могут разрешить приходить к сыну раз в день, но это всё.
— Вот!
Ира радостно подскочила, младенец дернулся, и тут же сопение прекратилось.
— Тщ-щ-щ…
— Но что касается вас — вас отказную заставят написать. Скажут: пиши — и вы подпишете.
— Да я не стану! Да как вы вообще можете так говорить?! У вас дети-то хоть есть свои?
Степашка встал и вышел в коридор.
Коридор пропах курицей. Маленькая будка, казалось, соединила все точки схода и все линии перспективы в здании. Сейчас она пустовала, изображения в крошечных квадратах камер тоже остановились. На столике конвоира валялись поломанные зубочистки, серый гладкий тетрис с выпуклыми желтыми кнопками, алюминиевая вилка с тремя волнообразными зубчиками, но самого конвоира не было. В глухой тишине слышалось, как он гдето сморкался, как открывал кран, как вода поглощала какой-то фонящий тон, похожий на заунывную песню.
Степаша возвращался в кабинет, и вдруг, где-то на полдороге, услышав, остановился: «У моей России длинные косички, у моей России светлые реснички…»
— Кормите?
— Давайте на «ты», что ж мы всё… Ну, кормлю.
— Ир, а как вы… ты… сюда попала? Н у, то есть не конкретно сюда, а на зону?
Ирина привстала, уложила младенца чуть ниже, укутала и уставилась в окно.
— И тут решетки. Они что, думают, что баба на сносях способна бежать через окно?
Степаша улыбнулся и сел обратно на стул.
— Сейчас.
Ира глубоко вдохнула и слышно было, как то ли от слабости, то ли от волнения нос ее неравными порциями вобрал воздух.
Когда Ирише Солнцевой было двадцать, у нее родился сынок Сережа. Все детство она провела в детдоме, и потому Сереже было уготовано что-то совсем иное, куда более домашнее и приветливое. Вместе они поселились в коммуналке, мама уходила торговать в брезентовой палатке овощами, а сына оставляла там же, где оставляли и ее в детстве — в люльке. Но Сережа день и ночь кричал, его вопль проникал сквозь стены и умудрялся добраться прямо до хозяйской спальни, до самых хозяйкиных ушей. И потому вскоре молодой семье стали угрожать выселением. Через неделю Ира нашла укромное место где-то в самой глубине подвала соседнего дома, там, откуда вылетали только клоки пара и извечная вонь, туда же она втиснула и кроватку. Спустя три месяца у нее появился ухажер. На протяжении недели мальчик-студент, плененный голубыми глазами, ежедневно приходил за килограммом картошки, затем стал носить букетики, затем потащил на знакомство с родителями, а после все же решился и предложил ей съехаться. В тот день они лезли в подвал вместе, она первая, и он следом. Но Сереженька, все так же привязанный за младенческие «нитки» запястий, лежал в люльке мертвый. Он захлебнулся во время приступа эпилепсии, и на глазах у бывших соседей она вытащила мертвого сына из тесной щели подвала. В тот же день Иру посадили, а при первом осмотре пожилой врач выяснил, что заключенная беременна.
— И шанса вам больше не дали.
— Посадили, кто станет шанс такой мамочке давать.
Степаша встал и снова пошел к будке. Длинный конвоир, опрокинув голову назад и чуть приоткрыв рот, тихо спал под пледом, поломанные зубочистки лежали на столе и катались от постоянного сквозняка. В камерах до сих пор стояла тишина. Из угла доносился все тот же звук. Новый день начался несколькими сигналами, а затем откуда-то из глубины приемника пробилось радостное пение хора: «Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией…» Степаша на цыпочках добрался до кабинета и запер дверь.
— А если мой сын тоже заболеет, кто-то его станет спасать?
— Не знаю, вряд ли.
— А я бы этой ошибки снова не допустила. Я бы просила их: «Люди, да вы звери, в самом деле? Ради Бога, у меня родился желанный ребенок».