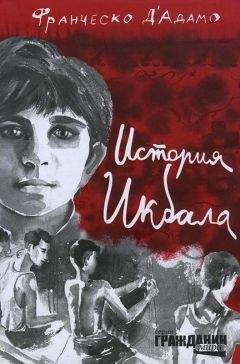Несчётное число раз перечитывала диалоги Платона: в старых, пахучих изданиях с пространными комментариями, в сочных, вычурных переводах — с оборотами вроде «немало говорил нынче в мою пользу» и «не шумите, о мужи афиняне», со всеми лирами, Алкивиадами, игральными черепками. «Апологию Сократа» я знала наизусть. Прибежав из школы, пока отец ещё был на работе, забиралась к нему на стол и декламировала в окно: «Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался этим и боялся этого…» Представляла перед собой насупленное сборище бородатых мужчин в хитонах. Отец поймал меня однажды за этим занятием. Я, не слезая со стола, с жаром начала расписывать, как здорово было бы жить в Древней Греции, не то что в нашей убогой современности, и что уж я бы уговорила Сократа не пить настойку цикуты, если б там жила. Отец посмеялся и объяснил, что в Древней Греции я бы рожала детей и варила чечевичную похлёбку, а философия обрывочно доносилась бы до меня из мужской половины дома, где мужи-афиняне возлежали бы среди чаш с разбавленным вином и грезили о мальчиках с первым пушком на губах.
Учебник с Верой Кукушкиной, разумеется, я тоже знала чуть ли не наизусть — и диалоги, и пояснения. Писала к нему нескончаемые продолжения в общих тетрадках, вводила новых персонажей из числа одноклассников и отцовских знакомых. Некоторые из моих диалогов отец даже давал студентам; можете себе представить, как я этим гордилась!
На философские факультеты всегда идут самые наивные или самые отчаянные, а в то время, когда я закончила школу, такой выбор профессии вообще казался то ли эпатажем, то ли безумием. Но я о других вариантах даже не думала. Чтобы не слыть папенькиной дочкой, поступила в МГУ. Сознательно выбрала специальность «Философ-преподаватель»: без изысков, без каких-либо перспектив профильного трудоустройства вне вузовских стен. Отец робко пытался меня образумить, но куда там.
Как и всякий юный энтузиаст, без разбору обчитавшийся книжек, я пришла в университет с пылкой кашей в голове (махровый позитивизм + невнятный дуализм, а прочее вообще не подавалось определению). Но главное, я пришла туда со специфическими представлениями о том, как делается философия. Разумеется, мой отец всю жизнь был академическим философом; он прекрасно знал, что пресловутый поиск благородных истин, когда он вообще происходит в университетах, происходит среди политики, бюрократии, интриг, предрассудков, жалких амбиций, мелочных обид — среди элементарной косности и глупости, наконец. Всё это мало касается первокурсников, но, к сожалению, есть ещё и вузовская рутина, конвейерное обучение выхолощенным абстракциям. К такому я была совершенно не готова. После многолетней сократовской педагогики на дому сама идея «академической философии» казалась мне бессмысленной. Я читала заумные статьи и толстые книжки, я даже представляла, как их можно писать. Но больше всего мне хотелось бродить у меняльных лавок на афинском рынке и распутывать концептуальный бардак в головах рядовых граждан. Я была уверена: только такой философией стоит заниматься. Всё остальное — магические пассы над остывшим трупом.
Сдав четыре сессии, я бросила МГУ и на десять лет вернулась в Петербург. В ту осень, когда Вы познакомились с Верой Кукушкиной, это время казалось мне «потерянным десятилетием». Первый год я вообще просидела на кассе в «Доме военной книги». Все знакомые перевалили экватор, а я выбивала чеки, краем глаза читала Макса Фрая и чувствовала себя тупой недоучкой.
В конце концов я взяла справочник абитуриента, выписала на полоски бумаги все факультеты СПбГУ, кроме философского, скомкала, бросила в вязаную шапочку и вытянула факультет психологии. Поступила и проучилась все пять лет, без троек и без особого рвения, если не считать курс Алабердова по психологии сознания. Я на тот момент уже усвоила, что только дурак или гений берётся за все проблемы сразу, но ещё надеялась оказаться гением, а потому считала, что копаться в чём-то одном мелко. Алабердовская психология сознания везде упиралась в философию сознания, и под конец курса меня осенило: так вот он, тот самый вопрос, ради которого не стыдно сузить горизонты.
Во-первых, поняла я тогда, решение проблемы сознания, каким бы оно ни оказалось, автоматом снимет целый выводок вопросов в онтологии, хорошенько проветрит теорию познания, перетряхнёт этику, так или иначе повлияет вообще на всё — от физики до теологии. Во-вторых, решить эту проблему классическими философскими методами никак не возможно. Химеры вроде «личности», «самости» или «свободы воли» разгоняются простыми логическими выкладками, но с сознанием такой номер не проходит — как его ни называй, оно всё равно себе существует. Чтобы справиться с ним, нужна когнитивная психология, нужна нейрофизиология, нужна физика — нужен, короче говоря, необъезженный зверь по имени «междисциплинарный подход».
Через год после встречи с Вами эти мысли привели меня в Майнц, но тогда они остались последним рецидивом интереса к научной карьере. Я не пошла в аспирантуру и ни единого дня не проработала психологом. Ещё на втором курсе психфака я окончила курсы массажистов и стала заниматься тем, чем занималась Вера Кукушкина.
Постепенно моя клиентура пустила корни и разрослась. Может быть, Вы помните: Вера рассказывала, что небедные дамы не могут устоять перед скромной массажисткой с хорошей дикцией, питерской пропиской, высшим образованием и элементарными знаниями психологии. Я могла купить себе всё, в чём нуждалась. Помогала отцу ездить на конференции, которые не мог оплатить факультет. У меня не было никакого стимула заниматься чем-то иным.
Так я прожила до лета 20… года. Работала, подучивала языки, почитывала случайную литературу на тему сознания. Трудно сказать, как долго тянулась бы такая жизнь по инерции, если бы в августе того года я не влюбилась.
Подробности банальны. Мы познакомились на свадьбе моей подруги. Он казался красивым и нестандартным. Темнил о своей биографии. Важно одно: месяц спустя, в конце сентября, он исчез. Как выяснилось позже, просто уехал: компания предложила ему место в Москве, он согласился, снял там жильё и укатил, не сказав ни слова никому из питерских знакомых. В один прекрасный вечер бабьего лета я пришла на Таврическую, где он жил в корпоративной квартире, и мне никто не открыл дверь. Я несколько раз звонила ему — он не брал трубку; я слала сообщения — он не отвечал. Недели две я была в состоянии, которое Вам хорошо известно. Меня и раньше бросали, один раз очень болезненно, но от меня никто не исчезал.
На этом фоне у меня разболелся зуб. Я несколько дней терпела. Потом одна из моих дам отменила сеанс в последний момент, когда я уже ехала к ней. Я поняла, что это мой шанс сходить к зубному. Попросила водителя остановить на Комендантской площади. Я много раз видела Вашу клинику из маршрутки.
В регистратуре мне сказали, что у врача Ветренко есть окно на одного пациента без предварительной записи. Я согласилась подождать двадцать минут. Пока ждала, девушки открыли мне карточку и ввели в базу данных. У каждого есть свои маленькие иррациональные бзики; один из моих заключается в нежелании раздавать направо и налево своё настоящее имя. Базы данных в коммерческих и государственных организациях — необходимое зло, но я не люблю с ним мириться. Я была уверена: если и вернусь в эту клинику, то максимум раз или два. В таких случаях я всегда берегу своё имя. Сейчас у меня в запасе с десяток произвольных имён и фамилий, но тогда, в Петербурге, я чаще всего представлялась Кукушкиной Верой Платоновной.
Вы, наверное, помните, что я расплакалась у Вас в кабинете, потому что у меня не было с собой денег. Вы внесли за меня всю сумму, и мы встретились на той же неделе, чтобы рассчитаться. С первой минуты нашей встречи было ясно, что Вы хотите со мной спать. Однако я согласилась пообедать с Вами, потому что была голодна, и в любом случае не позволила бы Вам напроситься на новую встречу. Во время обеда вы чем-то меня удивили; к сожалению, не помню, чем именно. Может быть, сказали меньше истёртых пошлостей, чем я от Вас ожидала. Может быть, как-то внятно отреагировали на мой рассказ о проблеме сознания.
Хорошо помню другое: на лице у Вас было написано большими буквами, что Вы женаты, но очень надеетесь, что речь об этом не зайдёт, потому что если зайдёт, то придётся врать, а врать как бы нехорошо. Я не видела повода быть с Вами Татьяной Бельской. А потом, когда Вы удивили меня, было поздно. В Ваших глазах я была уже не просто Верой Кукушкиной; я была аспиранткой философского факультета, апостолом профессора Бельского, нервной исследовательницей тайн сознания.
Хуже того, я поняла, что роль эта мне дико нравится. Смутно помню, что я тогда ела (в какой-то блинной мы сидели?), но помню, как вилка в моей руке дрожала от эйфории. Впервые за много дней я даже краешком мысли не думала о человеке, который исчез от меня в Москву. Думала только, что и дальше хочу быть аспиранткой профессора Бельского, хочу писать диссертацию о трудной проблеме сознания, хочу быть взбалмошной и академичной одновременно, — особенно если требуется для этого всего лишь врать какому-то случайному человеку, который поверит во что угодно, пока есть надежда затащить тебя в постель.