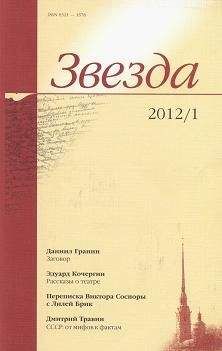В жизни же моей — ничего. В самом прямом и точном смысле этого слова. В Москву собираюсь, но не мог ехать из-за бюллетеня (каждые два дня нужно ходить отмечаться). А теперь постараюсь в начале февраля.
Здоровы ли вы?
Обнимаю Вас и Василия Абгаровича!
Анна — тоже! (приписано)
Ваш всегда — В. Соснора
26. 2. 76
Дорогой Виктор Александрович, я, конечно, свинья, что так долго не писала Вам. Но я толком не понимаю, чем и кем занимается сейчас Робель. Знаю только, что они приедут летом по приглашению Алигер.[259] Знаю, что он думает о Вас и что должна была выйти Ваша книга. А Клод сказал мне, что в любое время с радостью пригласит Вас официально.
Мы живы. Гриппом пока не болели. А больше про нас и сказать нечего! Сердечнейший привет Анне.
Не мстите мне — напишите о себе.
Любим, обнимаем.
Лили
(на обороте)
Вспомнила Ваше старое письмо. Стихов Нерона нет нигде. Спрашивала и в Париже.
До свиданья когда-нибудь, милый!
Все та же.
Л. Ю. Б.
4. 5. 76
Дорогая Лиля Юрьевна!
Мой день рожденья — 40 — «Декамерон 40!» помните польский фильм?[260] — прошел; сижу на диете. Наконец-то нашел прекрасного врача, который принял на себя крест наблюдения надо мной (мы почти сверстники, но я — неандерталец, а он — профессор, лучший в Ленинграде по почкам — хвастаюсь). Я ведь три года вне наблюдений, мой врач уехал — Туда, вот и валяюсь. Сей человек — просто спасенье, молю Бога, чтобы не уехал, я буду выполнять все его экзекуционные предписанья, как и выполнял прежде с тем, только молю Бога, чтоб тоже не уехал, ибо в Ленинграде он — последний из династических врачей. Вот — веселю Вас!
Празднество мое прошло с торжественными тостами, растрогали тем, что даже не хоронили, как бывает на юбилеях. Народу было всего двадцать человек, никого нового. Приехали из Львова брат и сестра (сводные). Нас ведь, братьев и сестер, — семеро от четырех жен моего знаменитого воина- папы. О двоюродных — и говорить страшно, что-то штук тридцать-сорок. Как видите, я обладатель гигантских родственных «связей» чуть ли не во всех городах СССР (по отцу) и чуть ли не во всех странах мира (по матери). Гигантомания какая-то! Но — мало с кем и знаком-то. И мало кто и подозревает об этой родственности.
И из всех — со всех сторон — я один урод.
Боже, сестра работает в магазине продавщицей (во Львове), а брат служил в конном кавалерийском полку при Мосфильме и снимался то в ролях, то каскадером в десятке лент. Лучшая его роль — адъютант маршала Нея в фильме «Ватерлоо».[261] Там он мелькает секунд 5–7, здоровый, румяный, красавец, а работает сейчас грузчиком на заводе — учить не хочет. У него уже машина своя (25 лет!), дача и т. д. В общем… в общем, четверо суток маялись, не зная о чем говорить, они — о ценах и тряпках, я… Наконец-то уехали, наконец-то остался. Хорошие, милые ребята живут! Но сердце мое постукивало с тихим тактом проклятья.
Есть очень симпатичный поэт в Ленинграде, Алексей Шельвах[262], ему двадцать семь лет, это — единственная моя надежда, так вот он написал о «людях»: «ШАЛЯТ, ЦЕЛУЮТ, ПЛЯШУТ, И — НЕ ПИШУТ».
Вам, наверное, неинтересно читать все эти родословные лепетанья, мне — грустно, вот и пишу. Почему вся моя родня — лавочники? Почему Господь не дал мне пусть маленькую — лавку, ту, татарскую, тот польский шинок, или эстонскую — картофельную? Сидел бы и сосал свою водку-селедку, рожал бы жирных жабоподобных Санчо или Вавил, кусая бы капусту, и — НЕ ПИСАЛ! Разве что доносы о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Думаю, что все мои польско-лифляндско-тевтонские крови ничего мне не дали, кроме «пороков», а маленький проблеск мой человеческий — от того прадеда, витебского раввина.
Не письмо, а трактат.
Нового — ничего. Еще уезжают. Хоть худ, но работаю чуть-чуть над поэмками. Запретили есть сахар (?!) и кормят сахарином (?!). Был Женя Раппопорт.[263] Он так же мил, но у бедняги вырвали здесь три зуба. Кошмар, как в прозе соцреализма.
Будьте здоровы!
Обнимаю Вас и Василия Абгаровича!
Ваш неизменно и верно — В. Соснора
19.5. 76
Дорогой наш Виктор Александрович!
Рада была Вашему письму. Ради бога, соблюдайте все предписания врача!!!!!!!
Что с романом в «Новом мире»?[264] Мы получили письмо от Кулакова и Марианны из Рима. Письмо веселое: артишоки, спаржа, пицца… Но краски, холст и т. д. очень дорогие.
Кошка Маруся, которую она взяла с собой из Москвы, очень нравится римским котам, и она весь день проводит на черепичных крышах.
Живем в Переделкине, несмотря на плохую погоду. Адрес наш московский.
Анна с Вами? Сердечный привет ей.
Если не лень, пишите мне почаще: для меня каждое Ваше письмо — радость.
Мы оба любим и обнимаем Вас.
Ваши Лили, Вася
На всякий случай адрес Миши:[265]
Напишите ему открытку, он будет рад. Марианна — тоже.
Она огорчена Вашей ссорой.
Л.
25.5. 76
Дорогая Лиля Юрьевна!
Был четыре дня в Петрозаводске. По приглашению ВТО. Композитор Э. Патлаенко[266] написал три больших вещи на мои стихи: по «Слову о полку», по «Песням Бояна» и по притчам. Я так необразован и безграмотен в музыке, что не могу судить, хорошо ли это или плохо. Кое-что мне понравилось, но это ничего не значит. (Композитор живет в Петрозаводске.)
В этой столице Карелии ничего нет — консервы из рабской какой-то рыбы и конская колбаса, по вкусу живо напоминающая покрышку от футбольного мяча. В Союз писателей срочно приняли двух поэтов еврейского происхождения (нэп в нацполитике!). Город, может быть, и живописный сверху, но внутри — петровско-сталинский. Но композитор, меня принимающий, мил и симпатичен, все не знал, что же мне подарить и достал… палтус! холодного копчения!.. Как раз то, что мне в первую очередь отныне нельзя употреблять! Я, по своей кретинической прямоте, это сказал. Тогда огорченный композитор подарил мне большую деревянную рюмку из карельской березы!.. Тоже!
Тогда, отчаявшись в своих самых лучших чувствах, он подарил мне… телескоп! О БОЖЕ! Мечта моей юности! Но мое окно выходит не в небо, а во двор, и телескоп нужно везти десяти атлетам, а я — что… Так и остался он, моя мечта, пока в Петрозаводске, упакованный до лучших времен.
Вот такие приключенья.
Все еще на бюллетене. Температуры нет, но анализы неважные. Стоит вопрос о больнице. Что ж. Не привыкать. Я ведь и прошлое лето провел в больнице. Уже отношусь к этому не без юмора.
Дорогая Лиля Юрьевна! Как же я напишу открытку Кулакову?! Ведь я все- таки позвонил, чтобы проститься, хотя и был молчаливо выдворен из дому. На мой звонок ответом было то же выдворенное молчанье. О чем я могу написать открытку? Для чего? Абсурд получается. Уж лучше оставить все как есть.
Работать не могу — омерзительные антисептики и биотики — голова кружится. Читаю, делаю пометки, жду новостей из «Нового мира». Вы краем уха не слышали, что там с моим Петром III? Я ничего не знаю.
А во дворе птички пищат, Анна в театре смотрит выпуск балетного училища, благо что оно в нашем доме, а я и балет не понимаю, созерцать ничего не умею. Мое нелюбопытсво превращается в патологию. Пытаюсь оформлять документы в Чехословакию (получил приглашенье от переводчика). Но время неудачное, лето, нет паспорта, нет месткома и т. д. Может к сентябрю оформлю.
Се ля ви. (И французского я большой знаток!) Жаль работать невозможно, многое нужно бы написать… многое. Заграничная моя переписка опять дает существенные перебои. Да и что мне от них! Не приехали еще Робели?
Будьте здоровы! Обнимаю Вас! Василия Абгаровича!
Ваш В. Соснора
7. 6. 76
Дорогой Виктор Александрович, спешу Вам сообщить печальную весть. «Новый мир» не будет печатать Ваш роман. Тевекелян[267] всей душой за печатание, вся редакция как будто тоже. Но Наровчатов резко против. Он сам работал над этой темой, и Ваш роман категорически не нравится ему. В редакции огорчились, стараются напечатать его в другом месте, но пока не решаются сообщить Вам об отказе. Может быть, и удастся? Чем черт не шутит.
У нас ничего нового. Погода меняется по десять раз в день, мое сердце это не любит и часто болит. «Пора, брат, пора!» Я еще не чувствую себя старой, но мне очень много лет… Вот и думаю, что скоро умру.
Здесь, в Переделкине, как нанятые поют соловьи (у нас в саду). Сирень только начала распускаться.