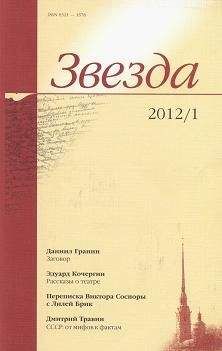Я читаю книгу о Юткевиче[268] и раскладываю пасьянсы, после каждой трапезы и перед сном.
Обнимаем Вас.
Не забывайте меня.
Привет Анне.
Ваша Лили Брик
16.6. 76
Дорогая Лиля Юрьевна!
Спасибо за вести о «Новом мире». Я так и знал (а что могло быть другое?).
В Переделкине перемены погоды, а здесь стабильный холод. И жидкий дождь. Лежу потихоньку, читаю чушь, у-ка-лы-ва-ют.
Журнал в Париже, который хотели сделать обо мне, провалился. Пытаются сделать книгу. Робель переводит книгу стихов В. Бокова (!!!).[269] Хорош вкус. Не пора ли мне иметь хотя бы за границей — дела не с друзьями? Они хотят открыть счет «счастья» на двух стульях, на двух странах, а в общем-то — побирушки на Алигер, на Бокове.
Простите за столь резкий отзыв о наших общих друзьях. Но если посмотреть с холодным вниманием — по какому праву Робель законсервировал мои рукописи? И сам не гам и другому не дам. По какому праву они меня обжуливают десять лет, обещая издать книгу? Я бы давно издал в Париже и без серпов и молотов.
Молчу, иначе будет уже не письмо, а филиппика. Молчу и смотрю холодно и злобно и на своих бедных, и на этих — «свободных» лавочников от литературы, да и от жизни.
Молчу, ибо когда заговорю, мне же всех хуже.
Есть ли грибочки? Мне, видно, и в это лето не пособирать. Мечтаю о лесе, о грибах, о своей Эстонии, о своем хуторе, где было так хорошо, как уже не ждать. Я не хандрю, я злюсь, а это — признак оптимизма.
Будьте здоровы!
Все объятья мои — Вам! Вас<илию> Абг<аровичу> — привет!
Ваш В. Соснора
17.6. 76
Дорогой Виктор Александрович, вчера была у меня Марианна и привезла газету с Вашей фотографией и большой хвалебной статьей о Вас. Не посылаю Вам — боюсь, что не дойдет. Марианна будет в Ленинграде и привезет ее Вам. Она перевела книгу стихов Маяковского и прозу Пастернака (без «Живаго»).[270] Вы — моя реклама и я очень обрадовалась статье.
У нас бесконечный дождь и мы сидим в Переделкине, оттого, что здесь в комнатах тепло — топят, а в московских квартирах — собачий холод.
Привет Анне.
Обнимаем.
Лили
14.9. 76
Дорогая Лиля Юрьевна!
Не писал столь долго — все было в неизвестности, а чего смущать Вас своей неизбывной неизвестностью?
Вот какова неизвестность:
месяц был в Отепя, на своем хуторе, и был счастлив. Один. С хозяйкой, которая меня любит и стирает, и — ни слова по-русски. С песиком Микки, одиннадцать лет назад я взял его на хутор щенком — и жив, сукин сын в прямом смысле этого слова. Я не был три года — узнал, как Одиссея (кстати, у Есенина — «по-байроновски наша собачонка меня встречала прямо у ворот»[271] — бедный великий Есенин! Никакой собачонки у Байрона не было, да и ворот собственных тоже, спутал «классик» с Гомером).
Так втроем и жили: 70 лет, сорок лет и одиннадцать лет — три поколения. Сначала был растерян, ибо три года вообще не писал, потом потихоньку походил в лес, посмотрел грибочки — на месте и хороши, походил по ночам — холмы, тьма, ни души, разве песик на далеком хуторе вскрикнет — «ой-ой-ой!»…
Вот и написал почти новую и тематически и по стилистике книгу стихов![272] Вскоре перепечатаю и обязательно пришлю, ибо сам ею доволен, — что-то новое! (для меня, конечно!) А пережевывать старье собственное — ненавижу. Как и себя вчерашнего — всегда!
Приехал в Ленинград, действительно счастливый, и, как всегда в таких случаях, — мордой об стол! Цензура бесповоротно зарезала повесть о Мировиче (помните, из романа о Державине и Петре III?). Поднял на ноги деканат исторического факультета, всех, кого мог, поднял — еще энергия лета. Длинная, скандальная и позорная история была по всем инстанциям, но повесть отстоял, она уже подписана, будет в № 10 журнала «Аврора».[273] Кастрированная ровно наполовину (конечно же, кастрированы куски лучшие), остался какой-то абсурдный трактат с диалогами, дикость, но — теперь можно драться в издательстве (а читатель, как всегда, мистифицирован!). Но сейчас не до читателя. Хоть так, раз живем в таком мире.
Подписал гранки своего избранного. Это не Андреевское (приписано рукой: Вознесенск <ого>) — томообразнее, книжечка-то на 185 страничек[274], почти все юношеское — 16-ти-летназаднее, но кое-что пока удалось и там из неопубликованного, и если… то и это кое-что — кое-что. Вот так и живем — от кое-что до кое-что. Мерзость, ярость, нищета, но… данность. Только открываю глаза, смеюсь как шакал — сквозь глаза, ибо слезы все выслезились.
Еще весной получил вызов в Чехословакию от своего переводчика. (Никогда его не видел в глаза.) Сейчас получил паспорт. Написал письмо — когда приехать и жду когда. А деньги на исходе… Если бы друг был этот чех, а то… как стеснять, их? Как быть там, если не знаю в Чехии ни единого человека, а кого знал — нет их там сейчас. Жду.
Кулаков пишет отчаянные письма. Пытаюсь успокоить: дорогой, ты в Риме всего три месяца, а уж если Москва слезам не верит, то Рим — океаном слез не смутишь. За три месяца не прилетают ни Жар-птицы, ни семь братьев не появляются. Жди терпеливо и храбро, пока царевна проснется (ведь проснется!). Судя по письмам, его мучают свои же т<ак> на- з<ываемые> «диссиденты» (там-то они кто?). А он это не умеет, да и — не для нас соцвопли. Соцсопли.
Но самое главное: в последний день в Эстонии пошел в лес, грустно мне было расставаться с моим лесом (нет у меня больше души живой ни в тех краях, ни в этих), лес был неплох, были и белые, были и красные (о грибы! не ассоциации гражданских войн!), и вдруг, на грани последней грусти, когда вышвырнул нож (ритуал — конец грибной охоте!), вдруг — перед самым лицом — Белый, Гигант (потом взвесил — 800 грамм, чистый, без червоточинки), и в эту самую секунду вдруг в моем изможденном мозгу блеснула пьеса, не замысел, не план, вся пьеса — как вспышка! «Не ходи в лес!» Так сказать, идея ее — никто не ходи в мой лес! Пьеса вне времени и пространства. Хутор. Приезжает Дева-Рыба и ей все говорят: не ходи в лес, это ЕГО лес. И начинает в рассказах выясняться, кто же такой был ОН. Он был человек со звенящими волосами. Дура все же идет в лес, раз, другой, сначала начинает заикаться, а потом немеет. Долго описывать замысел даже. Но пьеса уже — есть. Есть планы, наброски, черновики — это чушь, главное — она есть во мне, первая моя, настоящая, миф о несчастном чудотворце, которому были запрещены чудеса (не хожденье по морям, не хлеб на мильон человек), обыкновенные человеческие чудеса собственного достоинства на фоне пошлости и ублюдков. Написать эту пьесу и умереть.[275] Больше мне ничего не надо. Но пока не напишу — ничего со мной не будет. За этот месяц одиночества в абсолюте я понял больше, чем за все прошедшее десятилетие. Он — это просто идеал человеческого достоинства. И люди хутора, униженные, оскорбленные и т. д., как над ними ни издеваются страшные зюйды (племя поработителей), на все отвечают и грозят: ОН придет, и если вырубили ЕГО лес — ОН придет и лес вырастет. Вот и я себе говорю: ОН придет! Нельзя опускаться, ты видишь — выше, отстрани от себя всю шелуху чужих людей и своих истерик, — хлеб и труд: где еще больше счастье? И у Чехова восклицают: сад вырастет! Но это — демагогия (герой — демагог и эклектик). Здесь сознательное скрещеванье концовки — здесь вера в Дух Святой (я не псевдоправославен, как модно, вообще я — вне Бога).
Путано я все объясняю, Лиля Юрьевна. Но лучше дописать пьесу и прислать (а это — нескоро). А объяснять ее будут потом — в томах (уж тут-то не моя хлестаковщина, я знаю, что нашел (в себе!) пьесу, какой еще не было, ибо не было еще такого типа, как я. А уж в самоистязаньях, или по-научному в самоисследованиях я математически точен).
В общем, Ваш ВСЕГДА ДРУГ чуть-чуть поумнел, чуть-чуть хвастается, но — правда же счастлив, что нашел в себе — себя, в себе, игроке, — игру, в себе, дрянном драматурге, — дивную драму. Genug![276] (приписано рукой)
Вот видите — события!
Венецианки так и не было и статьи ее — тоже.
Из Отепя я написал Робелю довольно большое письмо. Он не ответил. Французский стиль… Эти французы — не мужчины. Ни Клод, ни Леон. Они — бабы в бабьем смысле этого слова. Может быть, я чем-то обидел и обиделись — если называетесь друзьями — давайте разберемся, может быть, все не так. Они молчат и, в сущности, — это хамство. Клод вызвал меня в Париж под нажимом американцев и не соизволил даже встретить меня на аэродроме. Я приехал из больницы! Каких трудов мне это стоило уговорить врачей отпустить меня на сутки. Вы знаете, что такое больница, но Вы даже не догадываетесь, что такое нервная клиника. Клод был занят, хотя все знал. Они — просто пили где-то — вот и вся занятость. Робель десять лет переводит мою книгу. За это время я получил два предложения на перевод моей книги от других французских славистов. Я сказал — нет, Робель уже делает. А они бы сделали за пару месяцев. Робель имеет мои рукописи и имеет наглость узурпировать их. Лиля Юрьевна, милая! Я человек не злой, я готов все прощать, но все это хамство! Я не желаю больше иметь с ними никаких дел. Не я найду — меня ищут те же французы, но не из их окруженья. Раз эти хамы — передаю дела другим.