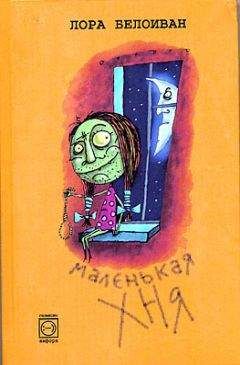Их первая встреча состоялась в заурядном ресторанчике Ниццы, где папаше Вениамина Федоровича принесли дюжину моллюсков на плоской тарелке, к краю которой горестно прижался лимон: кому хочется быть раздавленным, пусть сделает добровольный шаг навстречу устрицам.
Папаша Вениамина Федоровича был скроен просто и так же просто сшит: он не ведал сантиментов, и съежившийся от невыносимого разочарования цитрус плюнул в лицо нежному созданию, которое при других обстоятельствах вряд ли вынудило бы его на столь маргинальное проявление эмоций.
— Ну ты и поц, — сказала устрица, и нижняя челюсть папаши расплющила узел его галстука. Папаша и не подозревал, что владеет иностранными языками.
— Чего вылупился, гондонище, — продолжала между тем устрица, — салфетку дай.
— Нате. — протянул салфетку папаша. Он был невероятно изумлен, но еще не сошел с ума.
Это случится с ним гораздо позже. В тот раз он просто вытер устрице лицо, тем самым раз и навсегда определив для себя ошибочную тактику в поведении с едой: никогда не следует обращаться на «вы» к тому, кого готовитесь съесть.
— Быстро встал, быстро пошел и быстро выпустил нас в море, — процедила устрица сквозь зубы, ни на секунду не усомнившись в том, что папаша послушается. Папаша послушался.
Он собрал устриц в свой клетчатый носовой платок, поднялся со стула и направился к выходу из ресторанчика, кажется, так и не расплатившись. Но как раз это и было правильным: зачем платить за то, на что не истрачено ни единого фермента?
Странным шествием ознаменовался День Освобождения Устриц. Впереди шел папаша, неся в вытянутой руке свернутый кульком носовой платок, а на ним, плавно перемещаясь по воздуху, перекатываясь по асфальту, подпрыгивая или наоборот, не поднимая голов от земли, следовали устрицы. Их было много и становилось больше и больше, потому что ресторанчики Ниццы встречались буквально на каждом папашином шагу.
Что было потом, спросите вы и услышите бессодержательно-исчерпывающий ответ про Exodus, долгие мытарства Колумба и Седова, майские жертвоприношения ацтеков тольтекам и зоофилию как редкий способ достигать оргазма метанием бисера перед свиньями.
Папаша полюбил устриц, но они не полюбили его, потому что «востребован» — не значит «избран», а любовь как вид взаимодействия двух и более объектов макрокосма чревата рождением нового сюжета. Нового сюжета не будет.
Это было чистой воды манипулирование, эксплуатация человека устрицами, игра в поддавки на вылет: вылетел, конечно, папаша, и игра на этом закончилась. Вы читали в газетах ру о жутком случае нападения моллюсков на пожилого отдыхающего — так вот, в той заметке было лишь одно слово правды: «устрицы». Папаша отдался им сам, а они не посмели пренебречь. Тот факт, что устрицы оставили от нашего отца лишь блистающую под европейским солнцем хорду, говорит о многом. Главным образом о том, что любовь, делаясь взаимной, в тот же миг становится безответной.
А что же бенгальские медведи, рычащие и фосфоресцирующие букеты которых папаша ежедневно, на протяжении многих летних месяцев приносил в дар устрицам? А о медведях мы не договаривались.
— Так что хуй с ними, с медведями, — говорит Вениамин Федорович, — папашу очень жалко
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Вероника Платоновна, семидесятипятилетняя дама с прямой спиной и сухими, как у верховой лошади, ногами в шерстяных чулках цвета какао шла через площадь, осторожно наступая на вчерашние лужи. Лед на них не трескался, и этот факт каким-то образом имел отношение лично к ней, Веронике Платоновне. Дойдя до середины замерзшей лужи, она каждый раз приостанавливалась и пробовала лед на крепость, постукивая по нему каблуками демисезонных бареток — сперва левым, затем правым. А потом шла дальше. До дома было две остановки. Она решила не брать автобус, а пройтись пешком, чтобы устать, а заодно потерять время. До вечера было еще слишком долго, а с Андреем Николаевичем она, пока ходила звонить, попросила посидеть свою молодую сестру, шестидесятилетнюю Надежду Платоновну. Теперь уже не следовало опасаться. Позвонить же прямо из дому Вероника Платоновна не посмела. Андрей Николаевич мог услышать. Даже из автомата в своем квартале не решилась. Поехала в центр города. Хотя, конечно, это было уже лишним.
Веронику Платоновну можно было бы назвать красивой старухой. Было в ней, несмотря на крайнюю худобу, нечто величественное и благородное, и даже древний шрам, в юности изувечивший левый ее профиль, теперь не осквернял лица, а казался лишь еще одной морщиной; может быть, чуть-чуть более резкой и глубокой, чем остальные. А сколько было слез по поводу этого шрама, сколько горя. Она даже руки на себя хотела наложить, но испугалась смерти и высыпала сонные пилюли в унитаз. А потом появился Андрей Николаевич — ах, любовь! — сперва она все время была начеку, стараясь оборачиваться к мужу правым профилем, точным, как у Нефертити, а смятый левый прятала от его глаз, неосознанно надеясь, что он забудет о шраме, если долгое время не будет его видеть. Но все эти неловкие ухищрения вскоре были прекращены за ненадобностью: Андрей Николаевич однажды повернул ее к себе анфас — свет от окна упал на ее лицо — и сказал очень серьезно, что лично он, Андрей Николаевич, не видит в ней, Веронике Платоновне, никаких недостатков. А если и видит, то они ему нравятся. И Вероника Платоновна перестала стесняться. Правда, однажды, в ссоре, это было то ли сорок, то ли даже сорок пять лет назад, он сказал ей... Впрочем, Вероника Платоновна не помнила, что именно сказал ей тогда Андрей Николаевич: к тому времени она уже научилась не слышать обидных слов, вылетевших сгоряча или, подобно воробьям, по недомыслию.
А вначале, конечно, сильно на него обижалась. И плакала почти каждый день, считая, что красавец Андрей Николаевич на самом деле не любит ее, а женился из жалости и в расчете на снисходительное отношение к его будущим свободным поступкам. Никаких таких поступков Вероника Платоновна за ним не замечала, но знала, что рано или поздно они обязательно будут. И действительно: тридцать один год назад Андрей Николаевич не ночевал дома, а появился лишь под утро сильно выпившим, что было совершенно ему несвойственно (он не был любителем алкогольных напитков, так как очень тяжело переносил похмелье), и когда раздевался в спальне, Вероника Платоновна увидела, что трусы на муже надеты наизнанку. Но к тому времени прошло уже лет пятнадцать, как она научилась быть спокойной к будущим неизбежностям, поэтому никакой катастрофы не случилось.
Вероника Платоновна думала об Андрее Николаевиче, когда откуда-то с неба ее окликнули сочувственным голосом, она остановилась от неожиданности и огляделась вокруг себя, и даже посмотрела вверх, хотя, конечно, уже поняла, что голос на самом деле был не сверху, а сбоку.
— Здравствуйте, эээ... Деточка, — сказала Вероника Платоновна, но уже и имя вспомнила, и вид сделала, что «деточка» было всего лишь к имени предисловием: — Валенька, дорогая, как вы прекрасно выглядите.
— Вероника Платоновна, мы так все огорчены, и я, и мама, так ужасно. Это правда? С Андреем Николаевичем? Как он?
— Плохо, Валенька, очень плохо, — сказала Вероника Платоновна, позволяя взять себя под руку, — Он умрет сегодня вечером.
— Что вы такое говорите, Вероника Платоновна? — Валенька даже приостановилась, но старуха лишь замедлила шаг, однако продолжала идти, — это врачи так считают? Какой кошмар.
— Надо же, как за ночь похолодало, — сказала Вероника Платоновна.
— Да, — ответила Валенька, — конец ноября. Дошли молча до остановки.
— Я вас провожу, — предложила Валенька, видя, что старуха намеревается идти пешком.
— Да-да, — рассеянно согласилась Вероника Платоновна, — спасибо, деточка... Валенька, дорогая. Спасибо.
Спасибо свекрови, замечательная была женщина. Если бы не она, неизвестно, как бы все сложилось. Она сказала: ну чего ты на него обижаешься все время? Глупо обижаться на мужчину. Ты запомни: они — другие. Запомни и не обижайся никогда.
Это был совсем уж дурацкий случай. Гораздо более дурацкий, чем тот, будущий, когда пьяный Андрей Николаевич пришел домой в трусах наизнанку. Как-то вечером, это было сорок восемь лет назад, Вероника Платоновна обняла Андрея Николаевича, поцеловала его и сказала, что он, Андрей Николаевич, очень ею, Вероникой Платоновной, любим. И в момент, когда она, умирая от нежности, посмотрела в его глаза, Андрей Николаевич нечаянно пустил ветры. А сделав это, смутился, но не нашел ничего лучшего, чем рассмеяться. Вероника Платоновна заплакала, ушла в ванную и плакала там, запершись, а Андрей Николаевич терся возле двери и утешал виновато, и просил прощения, говоря, что совершенно случайно вышла у него эта глупость, и называл Веронику Платоновну ласковыми словами, а потом, потеряв терпение, сказал «ну дура, прости меня Господи», и ушел на кухню ставить чайник — Вероника Платоновна слышала из ванной, как он там набирает воду.