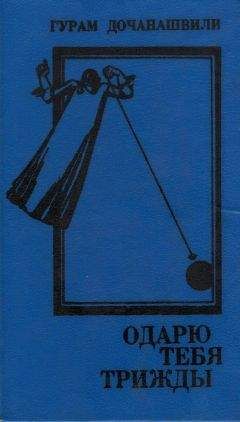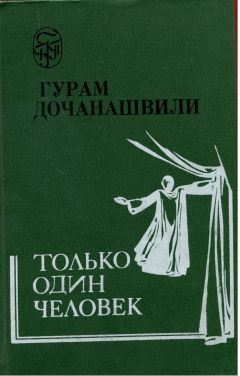— Чу! — прошептал ученый человек Ардалион Чедиа, — никак скачет лошадь...
— Откуда взяться лошади в Харалети... в такую пору, — вскинулся Пармен Двали, между тем весь обратившись в слух: — Погоди, погоди...
— Среди ночи?! Кто бы это мог быть? — навострил уши Ефрем Глонти.
— Давайте-ка у этого спросим, — блеснул глазами Пармен. — Ты что-нибудь слышал, Кавеладзе? Кавеладзе!
— Яхшиол, — отозвался тот.
— Санда сагол[16], разрази тебя гром... — усмехнулся Пармен Двали, — нам бы еще парочку таких, как ты...
— Все глухие и кривые почему-то именно нам должны достаться! — пристукнул кулаком по колену Титико Глонти.
— Слава нашим Харалети, лучше края в мире нету! — возопил Тереза, да так зычно, что Титвинидзе выпустил из рук поднесенный ко рту рог.
— А давайте-ка, друзья, выпьем за всех путников, за всех странствующих в ночи, — огляделся вокруг Пармен Двали, и пристав тут же воспользовался случаем выместить на нем накипевшую злобу: — Разбойник и бандит, а не ночной путник! Ты что, сторонник разбойников?
— Как вы можете, уважаемый...
— Тогда скажи по-другому...
— Да здравствует дневной путник!
— Так! Кто-кто?
— Дневной путник...
— Раз-говоры! Вы за кого меня принимаете! Бунтовать, да! Ведь это же бунт, а, Кавеладзе?
— Двадцать четвертое, сударь.
— При чем тут двадцать четвертое, Кавеладзе! Я тебе сейчас башку снесу! Какое двадцать четвертое, дубина!
— Сентября, начальник!
— Молчать! — разъярился Титвинидзе. — Я тебе покажу «начальника»! Кто твой начальник?!
— Вы, уважаемый.
— С чего это у него вдруг открылся слух? — прохрипел Шашиа Кутубидзе и надкусил кислый огурец. — Удивительно прямо...
5
Под деревом, в тени, лежал маленький Человек. Сидящий у его изголовья Папико-выпивоха, осторожно помахивая в воздухе рукой, отгонял от спящего папоротниковой веточкой мух, не сводя с него исполненного благоговения взгляда своих синих с поволокой глаз. А вокруг стояли мы, харалетцы, краса и гордость Харалети, только-только с трудом продравшие глаза, сонные, полуодуревшие от хмельного перегара, с отечными, мятыми физиономиями, словом, в том состоянии когда тебе, как говорится, весь свет не мил и ни до чего нет дела; но теперь мы все почему-то с любопытством приглядывались к этому спящему Человеку, уютно подложившему под щеку ладонь.
— Откуда взялся этот бродяга, перекати-поле?! — спросил Пармен Двали, прихлопнув себе ладонью по бедру.
— Тсс... — прошептал Папико, приложив палец к губам, — тише, он устал.
— Я еще не видел, чтоб человек так дрыхнул на виду у людей.
— Ты многого еще не видел, — шепотом сказал Папико. — Подожди немного и...
— Это, в конце концов, оскорбительно для нас! — ударился в амбицию Ардалион Чедиа, — точно так вел себя и Миклухо-Маклай, если вы об этом слыхали...
— Нет...
— Нет...
— Был один такой человек... не успел приехать к папуасам, как разлегся и захрапел во все носовые завертки... Но допустимо ли вести себя подобным образом с нами, мы же ему не папуасы, а просвещенный, цивилизованный народ!
— А кто такие эти папуасы...
— Папуасы — это когда много папуасов вместе.
— Но кто они все-таки такие, скажи наконец, шевельни языком. Не все же такие ученые, как ты! — взвился Титвинидзе.
— Дикари они, сударь мой.
— Дикари?
— Ну да.
— Раз-говоры!!!
— А этот сам, видать, папуас, господин пристав, — угодливо улыбнулся ему Титико Глонти. — Где это видано — спать прямо на земле.
— Не папуас он, а папиковский долгожданный Человек, — подпустил шутку Пармен Двали. — Гляди, чтоб он у тебя не простудился, малый...
— Коли спит, значит, так нужно, — сказал Папико.
— А если вдруг дождь?— прохрипел Шашиа. — Не очень-то тогда поспишь.
— Дождя сегодня не будет, — прошептал Папико, — дождьпойдет завтра.
— Ишь сказанул! Да откуда тебе это известно... — поневоле шепотом же спросил Шашиа: глотка-то у него ведь была пережженная.
— А может быть, ты сообщил бы нам поточнее?! — скорчив презрительную мину, покосился на Папико сверху вниз Пармен Двали.
— Дождь пойдет ровно в без двадцати два...
— Ай да Папико! Давай на спор, если хочешь.
— Не имеет смысла.
— Почему? — поинтересовалась тетя Какала.
— Я твердо знаю.
— Ну, если правда пойдет дождь, я тебя угощаю водкой.
— Не хочу...
— Почему это? Ты что, свихнулся? — вышел из себя Пармен Двали.
— А разве я в себе не волен? Не хочу, и все.
— Может, и вина тоже не захочешь?
— Нет.
— Почему, дурья ты голова...
— Человек пришел, — сказал Папико.
— А чем помешал тебе Человек?
— Вино и водку я пил потому, — тихо сказал Папико, глядя на спящего с почтительным благоговением, — что не было настоящего человека, настоящего мужчины.
— Где не было, слушай?..
— Здесь.
— Где здесь? Под этим деревом?
— Нет, в Харалети...
— Горе твоим несчастным родителям, — покачал головой Пармен. — А кто же тогда, по-твоему, Тереза?!
— Харалетец.
— Но разве же он не человек, не мужчина?!
— Как сказать... не знаю.
— А ты спроси об этом Маргалиту Талаквадзе.
— Неловко.
— Ладно, пусть так, но ты-то сам что, не знаешь?
— Свидетелем он меня на такие дела не берет.
— Хорошо. А Титико кто же?
— Харалетец.
— Ефрем Глонти?
— Он тоже харалетец.
— Я?
— И ты тоже харалетец.
— Ты соображаешь, что говоришь! Стало быть, выходит, мы все тут один другого стоим. Так, что ли?
— Да вроде бы.
— Почему, хороший ты мой, — неожиданно ласково обратился к нему Пармен. — Или никакого значения не имеет, кто из нас как говорит, кто — старший, кто — младший... Все это не имеет никакого значения? Но почему...
Папико сидел притихший.
— Почему, спрашиваю?
— Потому.
— Это что за ответ, невежа ты эдакий. А Тереза и Ардалион Чедиа тоже, по-твоему, без разницы?
— Да вроде бы.
— Зря, значит, Ардалион прочитал столько книг? Как дятел — носом в дерево, так и он просидел всю жизнь, уткнувшись носом в книгу. И все это зря, все понапрасну?
— А уж этого я не знаю.
— Что же ты знаешь?
— Тсс... — приложил палец к губам Папико, — он, кажется, просыпается...
— И уважаемый Какойя... ээ, господин Акакий, тоже не мужчина?
— Который, Гагнидзе?
— Да. Тоже нет?
— Не задавай мне, Пармен, таких неловких вопросов.
— Чем же они, интересно, неловкие?
— Хочешь, чтоб потом люди цеплялись ко мне, ты этого хочешь?
— Ох, холера тебя возьми, чтоб ты... — не смог договорить от возмущения Пармен Двали. — Ну и сиди тогда с этим бродягой безродным, а мы пошли.
— Стойте, не спешите!
Голос был незнакомый.
— Погодите... Прежде всего безродного здесь никого нет, у всех у нас есть родные и близкие, только мы иногда об этом забываем. И я, как и вы, тоже не безродный.
Так сказал маленький Человек и поднялся.
6
Где-то далеко, подле двора Маргалиты Талаквадзе, Тереза орал во всю мочь: «Эй, женщина, почему не спешиишь?! У меня для тебя в кармане кишмииш!!!»
— Миклухо-Маклай не спал, он весь был полон интереса. А люди, увлеченные интересом, не спят. Вот и я тоже одержим интересом.
Папико уже поднялся на ноги и стоял неподалеку, не сводя восхищенных глаз с маленького Человека в залоснившемся пиджаке, гладко причесанного на боковой пробор. А тот, высоко вскинув голову и внимательно к нам приглядываясь, продолжал говорить, четко чеканя слова.
— Маклая интересовало, как поведут себя дикари при виде спящего человека... Я не спал, я отдыхал. И, что главное, внимательно следил за вашим поведением. Скажу откровенно, — я не в восторге. Тем же приемом воспользовался Миклухо-Маклай, этот достойнейший, этот почтеннейший человек.
— Прошу предъявить документы! Покажи-ка нам, кто ты такой есть. Кому говорю! — пристав Титвинидзе схватился в бешенстве за огнестрельное оружие. Я говорю «схватился», а не «схватил», потому, что маузер был для него все равно что часть тела, — ох, как должен следить за собой пишущий человек! — Документы, живо!
— Застегните пуговицу!! — решительно надвинулся на него вдруг маленький Человек: все мы опешили и в ожидании пальбы прикрыли руками уши. — Вы находитесь на улице, а не в хлеву!| Устава не уважаете, так уважайте хоть людей! Эта единственная пуговица может стоить вам в муке добытых эполетов! Застегните! говорю вам, пуговицу!
— Хорошо, хорошо, сударь, — зачастил Титвинидзе, прикрываяладонью ворот, — случайно расстегнулась, а то какой бы подлец... Как это не уважаю устава, но она потерялась, видите ли, проклятая. Прошу покорнейше...
— У меня при себе иголка и нитки, — сказала тетя Какала, потянувшись рукой к приставскому воротнику, — я сейчас, мигом...