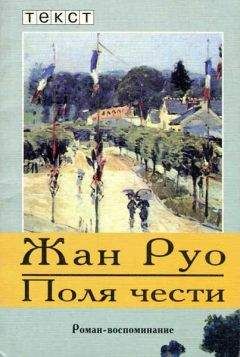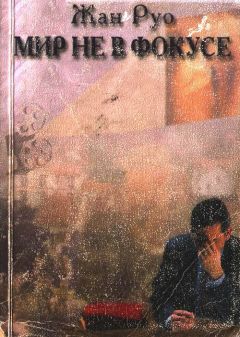Между тем на передовой отвоевывать утерянные позиции посылают марокканский полк. Газ еще не рассеялся, но жители пустынь стерпят, они же привыкли к песчаным бурям, обжигающим глаза и бронхи.
Путь до Турени долог. Обоз тащится еле-еле, оберегая страдальцев от дорожной тряски. Это вам не автомобиль «скорой помощи», грубые примитивные рессоры, о дорогах и говорить нечего — всякая колдобина отзывается стоном раненых. Жозефу не терпится добраться до места. Уж лучше, думаем мы задним числом, тянулась бы дорога бесконечно, отдаляя час прибытия. Но уж больно тяжело она ему дается. Шартр, Шатоден, Вандом — скоро уже.
По обрывкам слов, произносимым в бреду, по гримасам ужаса на лицах ясно, что их преследуют одни и те же адские видения человеческих тел, наполовину зарытых в землю, растерзанных, распластанных на колючей проволоке запутавшимися в сети синими скворцами, лишенных последнего утешения — возможности лечь и, прильнув к мокрой земле щекой, ждать, когда смерть принесет освобождение; сотрясаемые, точно икотой, при попадании пуль (напрасный труд), подбрасываемые взрывной волной, словно соломенные чучела, они описывают в рассеченном вспышками небе полет Икара и, наконец, в последний раз обнимают матушку-землю с открытым от ужаса ртом и с застывшим в глазах удивлением, оттого что выпало пережить такое, между тем как опрокинутая каска наполняется чистой водой — когда слетит на землю голубь мира, будет ему, где напиться. Но в громыхающем, рассеченном кровавыми молниями небе нет места птицам. Только время от времени кто-нибудь запустит в пекло обезумевшего почтаря, спеленатого посланиями, а солдаты — ну палить, воображая на минуту, что вышли всего-то на голубиную охоту. Из траншеи противника слышно, как они кричат от радости, словно дети, когда посланник, оборвав полет, тяжело шмякается на землю, и в это мгновение ненавидишь их сильнее обычного, поскольку веришь, что подстреленная птица несла избавление от бед.
Поле скорби, голая земля, изрытая и засеянная телами, ощетинившаяся обугленными пнями в память о зеленевшей тут прежде роще, из глины рожденное суетное племя в первозданный прах возвращенное, тошнотворное месиво с запахом жженого пороха и разлагающихся трупов, заглушающим зловонье живых, не раздевавшихся много недель; ветер, доносящий вместе с тишиной, когда смолкнут орудия, хрипы умирающих, впечатывающий их пророческими посланиями в плоть тех, кто прислушивается молча к звукам отлетающей жизни, и уносящий их в небытие; ночь, из услады сердца и несказанной мирной неги превратившаяся в часы напряженного ожидания, перебиваемые беспокойным сном, подкрадывающаяся смертельной угрозой к часовым, которых найдут на рассвете зарезанными; день, заявляющий о себе артиллерийскими залпами — прелюдией штурма, грозящий оборваться до срока; дождь, изливающийся нескончаемым потоком, будто чтобы смыть пятно первородного греха, превращающий землю в клоаку, заполняющий воронки, в которых тонут обремененные тяжелой экипировкой солдаты, дождь, струящийся по траншеям, подмывающий песчаные заграждения, затекающий за воротник и в ботинки, пропитывающий одежду, точно свинцом ее наливая, размягчающий кости, проникающий сквозь земную толщу, словно весь мир — это губка, адское болото для неприкаянных душ, дождь, барабанящий по капоту санитарной машины, успокаивающий и даже ласковый, сверкающий под фарами мириадами светлячков — лунных жемчужин, ритмично подпрыгивающих на дороге и в темноте городов, а утром ныряющих в реку неподалеку от Тура у основания королевских парков старинной Франции.
Жозеф не умрет, нет. Из Рандома в Тур приехала его сестра Мария, привезла с собой образков на все случаи жизни и по прибытии рассовала под подушки Жозефу и его товарищам по несчастью. Для этого она улучила минуту, когда ее не видели медсестры, в белых халатах снующие между койками бесшумно, точно русские балерины. Тех из них, кто верит только в науку с ее картезианскими добродетелями, амулеты раздражают: партия морфия пригодилась бы больше. Он тут на вес золота. Больные требуют его постоянно, а сестры дозируют, исходя из практических соображений, сообразуясь с громкостью стона, близостью смерти. Когда морфий кончается, девушкам хочется, заткнув уши, вопить громче, чем все раненые, вместе взятые. Слишком далеко зашла эта война. По общему мнению, она будет последней. Для Жозефа и миллионов других — несомненно.
Мария села рядом с братом, в изголовье, и, не мешкая, взялась за работу. Достала четки, выбрала у себя на небе главного по страданиям — а это сам Христос, что, конечно, не умаляет заслуг святых мучеников, растерзанных, забитых камнями, обваренных, — и, шарик за шариком, молитва за молитвой, стала просить взвалить на свои могучие плечи еще и страшный свист, вырывающийся из груди брата. А за это она — но что она может отдать, когда ничего не имеет, — за это она пожертвует желанием, которым по ночам томится ее плоть, пожертвует своей женской кровью. Кровь за кровь — все по-честному. И вправду, к Жозефу понемногу возвращаются краски, он уже садится на постели и даже ест. На землю Турени пришла весна, Луара вздулась от талых снегов, в стакане отцветают ландыши. Он говорит, что скоро вернется домой, бодрится, шутит с дежурной медсестрой, обещает жениться на ней, как только поправится. Та смеется (к ней сватается, по меньшей мере, двадцатый), Мария поджимает губы. Потом он чувствует слабость, начинает покашливать, хочет отдохнуть. Ложится, вытягивает руки вдоль тела, закрывает глаза. После кратковременного улучшения его снова мучают хрипы, жар, кошмарные видения войны. Лицо становится белым, как простыня, к вечеру начинается агония. На этот раз врач говорит, что надежды нет. В полумраке названая невеста ходит на цыпочках, чтобы не будить спящих, прикладывает ему мокрую тряпку ко лбу, поправляет простыни, а когда он вскакивает от приступа кашля, обнимает его, как ребенка, и капает в рот ложечку сиропа. К рассвету, когда белесая заря заливает огромную больничную палату, когда в тишине становится слышным плеск реки, его глаза обретают ужасающую неподвижность. Мария приходит первая, замечает, пугается. Ей объясняют, что это еще не конец, но надо быть готовой. Когда она зайдет в середине дня, взгляд его смягчится.
Жозефа больше нет, его имя написано на открытке религиозно-патриотического содержания, какие продают по пять сантимов на благотворительные цели в приходе Коммерси (супрефектура в департаменте Мез, славится печеньем «магдалинки»); открытка окаймлена черной траурной полоской, наверху заголовок под стать названию героического романа: «Поля чести», и подзаголовок из романа бульварного: «здесь в 1914–1916 годах лилась рекой кровь французов». (И продолжает литься. Подробно обо всех событиях нам обещают рассказать в книжке, которая выйдет после войны.) Посередине широкий черный крест с монограммой Христа, а вокруг — названия памятных мест: Артуа, Сербия, Дарданеллы, Марна и Маас, Лотарингия и Эльзас, Аргона, Изер — будто трагический венок, где каждый листок обозначает сражение, и значимость его определяется числом жертв, а потому Вими пишется такими же буквами, как Ланс, Димюд — как Остенде, Лез-Эпарж — как Нанси. Хвала Господу за чудесную битву при Марне, сплотившую наши ряды. Если и вправду она сродни чуду — кресту Хлодвига в небе над Тольбияком, спасению Парижа святой Геневефимой, Орлеана — Жанной д’Арк и жителей Рима — Львом I, добившимся для них пощады от вандала Гензериха, — значит, Бог не оставил нас и, сокрушенно взирая на то, как его сыновья используют данную им свободу, сохранил к каждому милосердие и любовь.
«Благословенна память героя», и далее место для имени, ручейком вливающегося в великую красную реку гигантского маточного кровотечения — его аккуратным учительским почерком вывела юная Мария, у которой история (мировая, скрестившаяся тут с безвестной историей нашей семьи) отняла двух братьев. И еще она приписала на полях, потому что в строку едва вмещалось имя (рутинный формуляр для простых смертных, пехотинцев, именами которых исписаны памятники, сделанные по подобию положения во гроб, где над столбцами фамилий тяготеет некая республиканская идея спасения): «В 21 год ранен в Бельгии, скончался в Туре 26 марта 1916». Эта лаконичная справка спасает Жозефа от долгой ночи забвения.
На узком пространстве выцветшими от времени фиолетовыми чернилами тетушка умещает тайну жизни и смерти. Двадцать один год. Лаперуз, как мы знаем — она сама нас этому учила, — в четырнадцать лет командовал фрегатом, а к двадцати одному, наверное, повидал все на свете, но Жозеф, что он видел, кроме родной деревни и опустошенных войной пейзажей, что запомнил из путешествий, кроме брезента над головой, Жозеф, возможно не знавший женщины, брошенный в адскую мясорубку, 26 мая 1916 года был еще слишком молод для главного события в жизни.