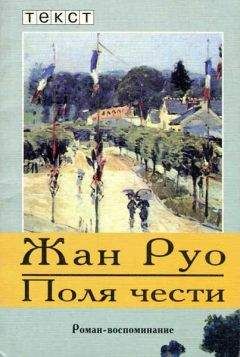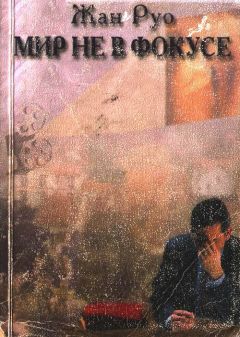На узком пространстве выцветшими от времени фиолетовыми чернилами тетушка умещает тайну жизни и смерти. Двадцать один год. Лаперуз, как мы знаем — она сама нас этому учила, — в четырнадцать лет командовал фрегатом, а к двадцати одному, наверное, повидал все на свете, но Жозеф, что он видел, кроме родной деревни и опустошенных войной пейзажей, что запомнил из путешествий, кроме брезента над головой, Жозеф, возможно не знавший женщины, брошенный в адскую мясорубку, 26 мая 1916 года был еще слишком молод для главного события в жизни.
А год спустя настала очередь Эмиля. Этот год разделил братьев в бесконечном мемориальном списке: Жозеф внесен в колонку погибших в 1916-м, Эмиль — в 1917-м, разбросало их так, что если какой любознательный потомок и заметит две одинаковые фамилии, то подумает: может, родственники, а вот если б имена стояли рядом, все бы видели их близнецами: два брата, павшие бок о бок, сраженные одной бомбой, соединенные смертью. Мария разделила новое горе — а на него у нее уже остались только слезы — с Матильдой, молодой вдовой, матерью Реми, которого отец только и видел что во время короткого отпуска по случаю его рождения. Он приехал под вечер, не снимая солдатской шинели, тихонько подошел к люльке, осторожно наклонился, боясь огорошить крохотное существо грохотом войны, и обомлел от счастья, увидев маленькие кулачки, сжимающие светлые сны, аккуратную каемочку смеженных век, волосы ангелочка, просвечивающую сквозь кожу сеточку вен и почувствовав загрубевшей рукой несказанную свежесть дыхания, звавшую его к молчанию. Приподняв муслиновую занавеску, Матильда показывает свое творение прославленному воину. Для нее он, конечно, прославленный, хоть и одет в пропахшую потом, пылью и невзгодами солдатскую шинель. Она читает на его обветренном лице, в морщинах, пролегших в уголках рта и на лбу, что жизнь на фронте — не сахар, что там требуется великое мужество. Она не смеет жаловаться ему, что испытывает лишения (он-то лишен всего), что ей приходится выполнять всю мужскую работу, все решать одной, что она устала и что Рождество без него ей не в радость, хотя она и поставила на комоде маленькие ясли и смастерила из оберточной бумаги стенки пещеры, превратившие палестинское селение в магдаленскую стоянку. Благодарность и жалость переполняют ее. Гладя его рукой по волосам, она признается, как ей не хватало его ласки, а он, подняв голову от колыбели, хмелеет от запаха женской пудры. Ей до сих пор не верится, что это он, — так долго она его ждала, так часто мечтала о его приезде. Она глядит на него и думает, не велик ли свитер, который она связала, ведь мерила-то по памяти: вытягивала руки и воображала, как обнимает мужа, как кладет голову в будто для того и приспособленную ложбинку на плече, которую и нащупывает сейчас, в то время как он, с поспешностью, более уместной при ловле блох, вытаскивает одну за другой шпильки из ее волос и складывает на тумбочку, где она найдет их наутро, когда он передаст ей плачущего спросонья младенца, а тот, улегшись на ней и успокоившись, начнет с жадностью сосать ее грудь, и молочные слезы потекут у него изо рта. Когда он насытится, отец высоко поднимет его на вытянутых руках в тусклом свете нарождающегося дня, так что малыш срыгнет и оставит белесый след на синей форме, лежащей на стуле. Эмиля это мало беспокоит. Отныне он чувствует себя неуязвимым в будущих сражениях, уверенный, что, как канатный плясун, проскользнет среди пулеметных очередей, хранимый воспоминанием о сыне-победителе, родившемся второго декабря, в день Аустерлица и коронования императора — что из этого следовало, никто толком не знал, но Реми не забывал упомянуть о знаменательном совпадении в каждый день своего рождения, примазываясь слегка к имперской славе, так что в конце концов в семейной памяти последний поцелуй Эмиля перед отъездом на фронт смешался с прощанием в Фонтенбло в комнате с пчелками на обивке.
Эмиль отсутствовал на своих похоронах. Долгие годы Матильда приходила к пустой могиле. Ее муж погиб, его видели мертвым, но бои сделались столь ожесточенными, что перерывы для выноса тел уже не соблюдались. Подготовку к масштабному наступлению тяжелая артиллерия вела иногда неделями, выпущенных по обстреливаемому участку снарядов хватило бы, чтобы целую страну стереть с лица земли. Солдаты лежали в окопах, вжавшись в землю, оглушенные грохотом, не рискуя поднять голову или протянуть руку за фляжкой, голодая по нескольку суток, пока дежурные (безоружные герои, пробирающиеся по траншеям с огромным котелком, который ни при каких условиях нельзя опрокинуть, и котомками с хлебом) не поднесут еду, не смыкая глаз, затаившись в узкой щелочке земли с ощущением, что страшный сон не кончится никогда. Трупы постепенно затягивались вязкой глиной, сползали в воронки, засыпались землей. Солдаты, идущие в атаку, натыкались то на руку, то на ногу, падая, целовались с мертвецом, чертыхаясь сквозь зубы, свои и того, другого. Когда покойник ставит подножку — это плохая примета. И все же кто мог срывал с его шеи номерок, спасая от безымянного забвения, словно бы трагедия неизвестного солдата в том и состояла, что он потерял имя, а не жизнь. Так случилось и с Эмилем: Матильде сообщили только, что он погиб в секторе, именуемом Верхний Маас. А вдруг Эмиль просто потерял жетон и кто-то его подобрал? Или поменялся номерком с товарищем, чтоб задурить голову тупому капралу? Точно ли Эмиля нет в живых?
Известны случаи, когда люди возвращались из плена через много лет после войны. Рассказывали, что контуженых и беспамятных заносило на Восточный фронт, где они заново устраивали свою жизнь. Батраки находили у голубоглазых полек несколько акров земли, которых не имели в своем краю. Родина была к ним менее благосклонна, чем женщины, искавшие мужика в хозяйство. Говорят, заблудившихся, голодных солдат такие невесты буквально подстерегали. Сытный бутерброд, немного ласки — иной раз этого хватало, чтобы удержать невольных трагических актеров. Да, но зачем Эмилю искать на стороне то, что было у него дома?
Безумная надежда на его возвращение с годами таяла и таяла, Матильда нашла кратковременное утешение в религии, совсем не так, как того хотелось бы ее невестке, а по-светски, на свой лад, короче, по слухам, в общении с одним весьма соблазнительным аббатом. Вообразить при этом тайные объятия было бы явным преувеличением. Самое смелое, что можно представить, — это приятная для обоих задушевная беседа двух одиноких людей — самодостаточная болтовня, подобная спокойной любви. В конце концов, Иисус Назарянин тоже был красивым парнем, и вызов синедриону и Риму бросили женщины, они первые пришли ко гробу, и в награду за верность им первым открылось Воскресение. Как восхищались все посланиями апостола Павла, а стоило ему самому появиться в Эфесе или Коринфе, так никто и слушать не желал заикающегося коротышку. Небо наделило аббата ангельским лицом, вот он и пользовался своей красотой, чтобы возвращать в стадо заблудших овечек. К ним Мария, работница первого часа, относилась с якобинской безжалостностью, от которой и чахли петунии в саду Матильды.
Письмо из Коммерси шло к нам десять лет. С ним оборвалась для Матильды ее молодость, рухнули последние надежды, и она вступила в ту пору жизни, когда человек если еще и позволяет себе мечтать, то уже никак не связывает эти мечты с реальностью. Соболезнования в первой строке отчетливо говорили, что желаемое никогда не сбывается и чуда уже не случится, что нет никакой большеглазой польки, прибравшей к рукам симпатичного француза, нет и потери памяти, что Эмиль действительно умер. Далее боевой товарищ пишет, что наспех похоронил его под эвкалиптом и сможет показать место, если семья решит забрать тело, как того, дескать, хотел умирающий, а не закопай он его тогда, сбросили бы в общую могилу или оставили гнить на поле боя. Но Матильда этих строчек уже не видит, глаза ее затуманились, и стоило ей моргнуть, как на бумагу ручьем хлынули слезы. Письмо не сообщило ей ничего нового, о гибели мужа она узнала двенадцать лет назад, просто оно подвело окончательную черту под ожиданием, и дверь захлопнулась. Она вспоминает, много ли было счастья в ее ушедшей юности, итог получается убогий: овчинка не стоила выделки.
Зима 1929-го выдалась одной из самых суровых, какие только известны. Второго февраля один пьянчужка замерз стоя, прислонившись к дереву («Вестник Устья»). Пятого Бриер, второе по величине болото во Франции после Камаргских, бывшее некогда заливом с островками там и сям, но постепенно заполнившееся наносной землей, в одну ночь остекленело. Нутрии, родственницы аппалачских бобров, запущенные сюда в начале века в надежде на то, что пушной промысел послужит бриерцам подспорьем, застыли наполовину вмерзшие в лед в ту минуту, когда пытались выбраться из нор («Западный полуостров»). Восьмого в порту Сен-Назера, превращенного на время в Анкоридж, каботажное судно затонуло под тяжестью снега на палубе. Доки и пляжи усеялись трупами чаек, белыми на белом, спрятавшими головы под крыло в последней отчаянной попытке согреться. Луара тащила невиданной тяжести льдины, одна из которых чуть не потопила драгу в Сен-Флорене: по счастью, наш пресноводный «Титаник» сел на мель. Сугробы парализовали жизнь в крае. Поезда остановились, паровозы, переоборудованные в снегоуборочные машины, не справлялись с расчисткой путей. Дороже всех за такой каприз природы заплатили, как водится, всякие горемыки: нищие, замерзавшие в придорожных канавах и жалких бараках, одинокие старики, хилые дети, бездомные собаки и синицы.