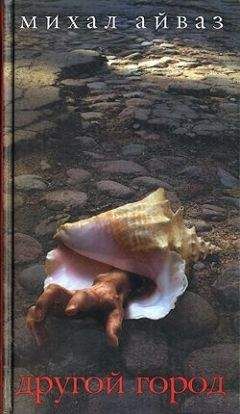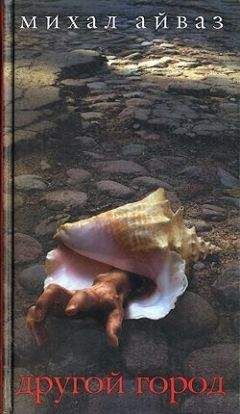На картине, которая висела на стене над муравьем и молодым мужчиной, был Центральный пражский вокзал ночью: далеко-далеко, на последнем пути под холмом, стоял поезд, его окна были темны, и только одно излучало яркий фиолетовый свет. Перебираясь через паутину рельсов, в которых отражались свет вагонного окошка и красные и зеленые огни семафоров, к сиявшему прямоугольнику шли люди, несущие странные дары: они тащили большие чучела животных и непонятные, сложные приборы, два железнодорожника неловко ковыляли по шпалам с огромной картиной, на которой был изображен ресторан гостиницы, обычно стоящей в маленьких городках на площади по соседству с ратушей и сберкассой; помещение, залитое ярким утренним светом, было пусто, лишь в глубине отдельного кабинета склонялся над газетой седовласый господин, на стене над ним висела потемневшая от табачного дыма картина, и мне показалось, что это та самая, возле которой я стою: интерьер приморской виллы, где гигантский муравей убивает молодого мужчину.
Все то время, пока я рассматривал картину на стене и картины в ней, за стеклянной дверью раздавались неясные женские голоса и смех. Я был так увлечен полотнами, что не обращал внимания на звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Вдруг мне показалось, что кто-то назвал улицу, на которой я живу. Я встал у стены рядом с дверью и прижал ухо к филенке. Слышался женский голос, который увлеченно рассказывал:
– Он даже не знает, что эта улица – часть древней длинной дороги, ведущей через города, леса и равнины к золотому дворцу в джунглях, большинство людей забыло о связи между отдельными отрезками дороги и о причине, по которой дорога возникла и которая до сих пор скрыто властвует над ней. Дорога часто теряется, ее невозможно отыскать в траве, ее обочины сливаются с опушкой леса, мало кто отличит ее придорожные столбы, отшлифованные дождями многих веков и поросшие мхом, от обычных камней. Даже тот, кто догадывается об истинной сущности дороги, может засомневаться, бредя долгие месяцы и годы по бесконечным коридорам деревенских пивных – пропахшим отсыревшей штукатуркой, с ходящими ходуном плитками пола, – по дворикам, поросшим крапивой, по грязным колеям между холмами, по балконам и галереям с кучами старого барахла, он подумает, что эти зловонные места не могут быть дорогой к дворцу, – отправляясь в путь, он представлял себе благородную симметрию и просветы между гранитными пилонами, он подумает, что давно сбился с пути, и откажется от поисков – быть может, прямо возле невзрачной трухлявой двери, за которой открываются королевские залы.
– Да, – рассмеялась другая женщина, – дорога становится поистине дорогой именно тогда, когда растворяется в пейзаже, когда нам кажется, что она закончилась, тогда тает и цель, которая всегда только сбивает нас с пути, потому что цель – это наше представление, неотрывное от места, откуда мы начинаем наше путешествие, и оно постоянно тянет нас обратно; только тогда у нас появится надежда дойти до конца дороги, когда мы забудем и о пути, и о цели, когда окунемся в пространство и позволим ему нести нас по его неспешному течению, королевский дворец воссияет на пороге ночи между деревьев лишь тогда, когда мы накрепко позабудем свои мечты о том, как однажды увидим его.
– Забавно! – сказал третий веселый женский голос. – Он не знает, что конец дороги властвует над всеми ее отдельными отрезками: он ходит по знакомым улицам в неведении, приближается он к золотому дворцу или же удаляется от него.
– А что он теперь делает? – перекрыл общий смех один из голосов.
– Он в соседней комнате рассматривает картину. Я замер и прижался к стене.
– Нет, больше уже не рассматривает, скорее всего подслушивает под дверью. Как вы думаете, он нас слышит?
– Пускай себе слушает, все равно ничего не поймет.
– Не поймет, не поймет, – звонко смеялись женские голоса, – не понял же он, что хотел сообщить ему Тот, Кого Укусил Муравей.
– Он глупый, – ликовали голоса, – где уж ему понять слова Укушенного!
Кто-то сказал, захлебываясь смехом:
– Наверняка он испугался того, что увидел на картине, ему невдомек, что долгие годы в его собственной квартире будет вместе с ним жить гораздо большее насекомое! По-моему, огромная муха.
– Муха! Муха! – радостно закричали голоса.
Снова зазвенел ликующий смех, говорящие перекрикивали друг друга: «Она будет питаться книгами из его библиотеки, она будет стаскивать их с полок хоботком!» – «Муха будет верна ему; когда он отправится на экскурсию, она увяжется за ним, и ему не удастся прогнать ее!» – «В поезде она втиснется вместе с ним в переполненное купе!» – «А потом он пойдет осматривать замок, и муха в войлочных тапках заскользит по паркету из зала в зал!»
Я распахнул дверь. Освещенное помещение, на пороге которого я стоял, оказалось кухней со старым буфетом, покрытым потрескавшимся кремовым лаком, и с круглым столом, застланным клеенкой. В кухне никого не было. У стены на закрытой футляром швейной машинке стоял проигрыватель с кружащейся пластинкой, конверт от нее, украшенный цветной фотографией какого-то отеля в Альпах, был прислонен к стене. Женские голоса доносились из маленького репродуктора, стоявшего у проигрывателя. Они еще что-то кричали о мухе и смеялись, а потом иголка добралась до центра пластинки, и голоса умолкли. Я вернул иголку на несколько дорожек назад и снова услышал: «…что долгие годы в его собственной квартире будет вместе с ним жить гораздо большее насекомое…» – все повторялось в точности, те же слова, тот же смех. Послышалось журчание, я понял, что уровень воды в шлюзе снова поднимается, быстро пробежал кухню и темную комнату, вылез на подоконник, через который внутрь уже текла вода, в последнюю минуту ухватился за удаляющуюся палубу и забрался на баржу. Я лег на припорошенную снетом гору песка и устремил взгляд вверх, в длинный вертикальный туннель, сквозь который падал снег; женский смех с пластинки смолк под водой, освещенные окна исчезали под водной гладью, скоро судно уже снова стояло там, где я впервые увидел его.
На мосту Легии лежал свежий нетронутый снег, искрящийся в свете фонарей. Я огляделся: баржа с песком спокойно отдыхала в тени стены. Я вспомнил о поезде на картине, висевшей в вилле у моря, и решил попробовать найти его. Мой путь лежал к Центральному вокзалу.
Я подходил к нему по Иерусалимской улице, огни стеклянного зала ожидания сияли между темными стволами деревьев заснеженного парка. Внутри на каменных скамейках спали несколько человек, закутанных в пальто, по блестящему полу почти неслышно ездила моющая машина, на которой восседал молодой человек в светлом комбинезоне. Я прошел по облицованному кафелем переходу и поднялся по ступенькам на последний перрон. За перроном не было ничего, кроме паутины тускло блестевших в темноте рельсов. По длинной платформе нервно бродили несколько пассажиров, ожидавших отправления скорого до Братиславы; поезд уже стоял с другой стороны платформы, за опущенным окном виднелась неподвижная фигура солдата. В освещенном киоске с запотевшими изнутри стеклами я купил пиво в бумажном стаканчике; поставив локти на узенький прилавок, тянувшийся вдоль бока киоска, я потихоньку потягивал пиво и смотрел на сплетение путей, линии которых прерывали черные силуэты каких-то загадочных конструкций; я не мог определить, что это – железнодорожные механизмы или же сакральные скульптуры другого города; возможно, это одновременно было и тем и другим. Я видел на запасных путях неподвижные пассажирские и товарные составы, совсем позади, под поросшей кустарником крутой насыпью, стоял поезд с картины на стене приморской виллы; все его окна были темными. Я нагнулся, просунул голову в узкое окошко киоска и спросил пожилую продавщицу в кроличьей жилетке, не знает ли она чего о поезде на дальнем пути. Она стала кричать, чтобы я убирался, что ее такие вещи не интересуют, что у нее и своих забот полно… В ее голосе слышался страх. Я допил пиво, выкинул стаканчик в урну и спрыгнул с платформы на рельсы. Тут же раздался встревоженный голос продавщицы, она звала меня назад. Однако я не послушался и, спотыкаясь, побрел через пути к стоящему вдалеке темному поезду.
Поезд ничем не отличался от прочих, ничто не указывало на то, что за его грязными окнами может скрываться невиданное. Я открыл последнюю дверь в хвосте поезда и поднялся по ступенькам. Я шел по вагонам мимо пустых темных купе, в окна которых тихо скреблись ветки кустов, растущих на склоне насыпи. Войдя в очередной вагон, я увидел через стекло тамбура, что он состоит из одного-единственного помещения. В помещении теснились парты, за которыми спиной ко мне сидели дети. На другом конце вагона за массивным столом раскачивался на стуле мужчина в сером пиджаке, рядом с ним стояла девочка. Вагон, очевидно, служил школьным классом. В нем было темно, ученики писали в тетрадях светящимися чернилами. Я тихонько приоткрыл дверь и услышал, как учитель говорит девочке:


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)