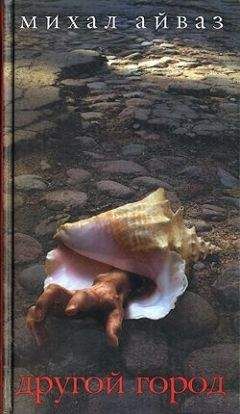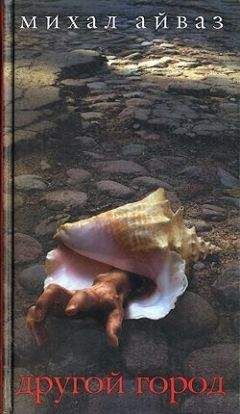Не меньше двух километров проехал я по извилистому коридору, а на картинах менялись лишь формы волн и складки занавесок. И только на картине с номером 1032 (на будильнике было чуть больше четверти первого) в дверях появилась голова муравья со страшными челюстями. Увидев, что в комнате никого нет, муравей быстро пересек ее и спрятался за занавеской: картины 1034–1039 показывали отдельные фазы этого движения. Когда я проезжал мимо картин на велосипеде, они действительно сливались в какой-то дерганый фильм, который разыгрывался внутри рам. Потом еще около километра на картинах почти ничего не менялось, только на холсте под номером 1471 в комнату вошел молодой мужчина в белом костюме; на следующих картинах он бегло просмотрел корреспонденцию и начал читать Гомера; он подчеркнул слова, которые повторял про себя загнанный Одиссей, когда на берегу острова феаков его разбудили голоса Навсикаи и ее подружек, и стал писать на полях книги свой странный комментарий. К нему тихонько подполз муравей, на картине номер 2054 вцепился челюстями ему в затылок и оттащил к стене. Картина с номером 2092 отсутствовала: это была та самая, что висела в шлюзовом доме. Мужчина уже перестал шевелиться, а челюсти муравья все не разжимались, сомкнутые судорогой какой-то темной ненависти. На картине 2173 на террасу спустился белый ангел. Одним прыжком он оказался в комнате, и они с муравьем тут же накинулись друг на друга и затеяли на полу жестокую драку. В волнах темно-синего моря тем временем продолжали плескаться беззаботные загорелые люди. Муравей беспощадно искусал ангела, из его ран текла золотая кровь и искрилась в солнечном свете. Однако в конце концов ангел прижал муравья к полу, сел на него верхом и душил до тех пор, пока – на картине номер 2895 – большие черные усики чудища не перестали подергиваться. Будильник показывал без двенадцати час. Поднявшись, ангел принялся открывать ящики и энергично рыться в бумагах; потом он перетряхнул все до единой книги из шкафа – и из белой брошюрки, на обложке которой было написано «Hegel et le pensée moderne, séminaire sur Hegel dirigé par Jean Hyppolite au College de Françe (1967–1968)»,[2] выпало на пол то, что он, по всей видимости, и искал; к моему изумлению, это оказалась фотография, запечатлевшая меня и Алвейру сидящими за большим окном погруженного в темноту ресторанчика «У змеи». Ангел старательно разорвал фотографию на мелкие кусочки, взмыл с террасы, полетел к морю, бросил обрывки в воду и направился к горизонту. На последней картине под номером 3600 ангел превратился в светлое пятно над лазоревой морской гладью. Был час дня, на берегу залива люди подставляли свои тела лучам палящего солнца. За этой картиной коридор заканчивался запертой дверью. Я слез с велосипеда, прислонил его к стене и нажал на ручку.
Я попал в темную комнату, снова я чувствовал запах незнакомого помещения, еще один аккорд в сумбурной и печальной симфонии ароматов. За широким окном виднелось ночное небо, по которому неслись беспокойные рваные тучи; в прорехе между ними показался ясный месяц, его свет засиял на обоях, заблестел на стекле в глубине комнаты и на гладких мясистых листьях растений в цветочных горшках – а потом снова стало темно. Я подошел к окну, в стекло вплыла долина, рельеф которой дробился на бесконечное множество крыш и стен. Я сразу понял, где очутился; судя по всему, я проехал по извилистому коридору под Виноградами и теперь находился в одном из домов, что стоят неподалеку от верхнего конца лестницы в Нуслях, – их окна глядят на Нусельскую долину. Я стоял у окна чужой квартиры и смотрел вниз, в темную долину, где на снегу блестел свет фонарей; дальний склон переходил в холм Панкрац, на вершине которого возвышалась стеклянная башня гостиницы, стены ее то светились, то гасли в переменчивом свете луны.
У окна я заметил подзорную трубу на штативе; приложив глаз к ее окуляру, я стал медленно перемещать оптический прибор, мой взгляд скользил по фасадам домов и по заснеженным улицам, в окуляре появлялись ряды темных окон, молчаливые и пустые грузовики, одинокие фонари, освещающие заснеженные фабричные дворы, полутемные стеклянные проходные, железнодорожные насыпи, заросшие непролазным кустарником. Время от времени в окуляре мелькало освещенное окно. Я заглянул в комнату под самой крышей: там под кроватью из пола бил источник и тоненькой струйкой тек во тьму углов; возможно, что в другом городе он сольется с другими потоками, журчащими в темноте, и превратится в могучую плавную реку, загнанную в набережную из гранита и мрамора, с каменными сфинксами и широкими ступенями, ведущими под воду, реку, шум которой мы услышим за стеной в тишине ночи. Я увидел прихожую, где под вешалкой, на которой висели тяжелые пальто, разбили лагерь усталые альпинисты, восходящие по темной и опасной лестнице на какую-то ледяную вершину. Я увидел комнату с мятым бельем, раскиданным по креслам, где на паркете сиял бледным светом тайный полюс мира; кто его знает, какие металлы он тревожит и какие стрелки притягивает к себе в темноте; путешественник из последних сил стремился к нему через складки ковра, собирающегося в гармошку, путался в длинных белых занавесках, взбирался на гору мятых одеял на неубранной постели. Я видел спальню над кратером вулкана, скрытого в глубинах дома, она была озарена голубым свечением лавы, которая поднималась по трещинам и медленно вытекала из щелей шкафов, из промежутков между книгами на полках и из неплотно закрытого ящика ночного столика, который стоял у широкой кровати, – там на сказочно сияющих простынях спали, обнявшись, две обнаженные девушки. Я видел картежников, играющих в темном зеркальном зале на мраморном столике в горящие карты, языки пламени которых бесконечно отражались в черной тьме зеркал… видел я и какое-то унылое пророчество, полное ядовитых огней, в окне обветшалого дома над замерзшей гладью ручья Ботич.
За открытой дверью мне послышался тихий зов. Я вошел в соседнюю комнату: в ее передней части на ковре, украшенном причудливыми арабесками, лежал лунный свет, задняя же часть комнаты, откуда и доносились крики о помощи, была погружена в непроницаемую тьму. Я направился в ту сторону, я налетал в темноте на углы мебели, спотыкался о стулья, падал на мягкие диваны. Голос умолк, но был слышен какой-то гул, который то усиливался, то стихал. Что-то нежно коснулось моего лица; я представил себе крыло большого ночного насекомого, но, вытянув перед собой руку, нащупал бахрому, свисавшую с нижнего края торшера на металлической ножке. Я нашел шнур выключателя с гладким шариком на конце и потянул его. Среди тьмы вспыхнул абажур цвета слоновой кости; я увидел, что торшер стоит на берегу холодного неприветливого моря, он освещал зеленоватые волны, которые подползали из темноты к моим ногам, на узорах ковра слабели и превращались в пену, стекавшую по ковру назад, где ее подхватывала новая волна. Во тьме опять послышался крик: в круге света появилось бревно, за которое цеплялась девушка, ее тело, посиневшее от холода, облепили клочья разорванного платья. Набежавшая волна подняла ее почти до белого потолка комнаты, а потом положила передо мной на ковер. Девушка недвижно лежала под торшером. Я снял с нее промокшее тряпье, взял на руки и уложил под одеяло на кровать, которая стояла возле торшера. Я убрал с ее лица мокрые волосы и узнал в ней девушку с палубы корабля на Широкой улице.
Я пошел в соседнюю комнату и зажег газовую конфорку, при свете голубого огонька нашел коробочку с китайским драконом на крышке и приготовил чай. Вернувшись, я присел на краешек постели и поднес чашку к губам девушки; выпив чай, она посмотрела мне в глаза и медленно и спокойно произнесла:
– Мы потерпели крушение, когда корабль плыл по ужасно узкому проливу между книжными полками какой-то огромной библиотеки. Наверное, судно налетело на утесы из окаменевших книг, наверное, неведомые чуждые программы, которые уже давно буйствовали в глубинах корабельных компьютеров, просочились в навигационные планы и разорвали цепи логических импликаций. Впрочем, теперь это неважно. Спаслась только я… Никогда больше не увижу я моего жениха, он бродит нынче по скучным подводным кафе, и наш мир кажется ему зыбким и туманным, как удивительный сон. Я давно знала, что компьютеры готовят нам что-то недоброе, но не хотела говорить с ним об этом, он был доверчив, словно дитя, он безмерно уважал капитана и экипаж – помню, как укоризненно посмотрел он на меня, когда однажды я не сдержалась и сказала, что капитан мне противен. Он не обеспокоился даже тогда, когда уже всем пассажирам стало ясно, что по крайней мере двое из корабельных офицеров – это только лишь галлюцинации и что из наших испорченных ночных снов перед носом корабля творится некая неясная Африка, которая изготовилась к прыжку, подстерегая нас, будто жестокий зверь.
Мне казалось, что из моря за кроватью торчит голова рогатого морского чудища, но это был лишь перевернутый стол с потонувшего корабля, качающийся на волнах, – волна швырнула его на пианино, скрытое во тьме, нутро инструмента глухо отозвалось всеми струнами, аккорд тихой музыки сумасшествия звучал еще долго.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)