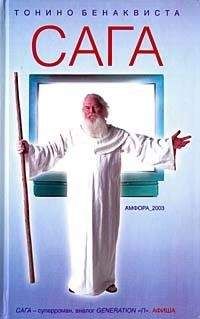Фургон сорвался с места и исчез. А я остался лежать мордой в землю.
Помню еще, я подумал: когда-то ведь это должно было случиться, верно, Луиджи? Одна голова среди множества других… Иди знай, какая именно. Может быть, та самая голова, которая продолжала думать и строить планы, лежа на своей ледяной подстилке… Эх, да какая теперь разница…
В Луиджи целились старательней, чем в Гробера. Наш шеф стал дырявый, что твой грюйер.[34] Но на это мне было начхать. Я заставил себя взглянуть на моего дружка. Казалось, он тянется вперед, чтобы погладить колесо «датсуна». И вот тут-то я дал слабину — разнюнился, как Магдалина у Гроба Господня. Мне было страшно встретиться с ним глазами. Он протяжно стонал, пытаясь уцепиться за крыло машины. Издали до меня донеслись четыре громких хлопка. Скверные это были звуки. И я опять заскулил, не зная, что мне делать. Всхлипывая, как младенец, я спросил его: «Хочешь пивка, друг?» Он не ответил, и я стал ждать.
Прошло секунды четыре, и к нам почти бесшумно подъехала большая черная тачка. Это могли быть и фараоны, и еще хрен знает кто, мне все было до лампочки, я даже не шевельнулся. Что сделал бы на моем месте сам Гробер? Да ничего.
На переднем сиденье маячили два силуэта. В ночной темноте трудно было разобрать, кто это. Я только понял, что не фараоны и не те, другие. Всего только пара напутанных путешественников, которые не знали, как им реагировать. Дверца со стороны пассажира не открывалась мучительно долго; наконец оттуда кто-то осторожно вылез.
— Не выходи! — прокричал женский голос с водительского места.
Однако человек не послушался и подошел к Гроберу. Медленно. Это тоже была женщина. С головой закутанная в длинную пеструю шаль.
Что-то в ней было знакомое — то ли губы, то ли глаза. Мне сразу же показалось, что я уже видел это лицо. Отмеченное вечной красотой.
И впервые с тех пор, как я сел рядом с Гробером, распростертым на земле, меня начала бить дрожь. Горячая дрожь, пронзившая все мое тело.
Женщина нагнулась над моим другом и долго смотрела на него. Потом легким движением плеч сбросила шаль с головы. И тут мы с Гробером не поверили своим глазам.
Она молча опустилась перед ним на колени. Гробер из последних сил чуточку приподнялся. Она помогла ему, обняв и прижав к себе.
Глаза Гробера засияли от восторга, он взглянул на меня. Всего на один миг. И тут же веки его сомкнулись.
Дама поцеловала его в лоб и бережно опустила наземь. Потом встала на ноги.
— Иди сюда, Урсула! Я боюсь!
Она вновь накинула шаль на голову и открыла дверцу, даже не взглянув в мою сторону. Машина исчезла вдали, за поворотом шоссе.
А я долго еще сидел, глядя в небо и отыскивая среди созвездий счастливую звезду Гробера. По статистике, найти ее там у меня был, наверное, всего один шанс на много миллиардов.
РЕКВИЕМ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЖИЛЬЦА
Я оставил телевизор включенным, опасаясь тишины, чтобы создать для себя иллюзию обыкновенного, ничем не выдающегося вечера и заглушить идиотское кваканье, доносившееся из квартиры сверху. На какой-то момент я заколебался, раздумывая, не лучше ли вставить листок бумаги в старенькую Olivetti, но потом все-таки склонился к традиционному писанию от руки. Я не имею права оставлять тем, кто меня любил, неровные подслеповатые знаки, холодные и безликие, как циркуляр. Тем более что на машинке западает буква «н», а мне она наверняка понадобится. Те, кто будет меня читать, заслуживают, чтобы мои последние строки были начертаны моей рукой, чтобы мой сердечный трепет, мои колебания, моя жажда абсолюта запечатлелись в этих буквах, ибо только дрожащая человеческая рука способна передать одновременно и колебания, и абсолют.
Я порылся в ящике стола, но не нашел там ничего, кроме зеленого фломастера. С острым кончиком. Нет, я не могу так оскорбить их. Пришлось обшарить всю квартиру, вывернуть все карманы и раскрыть все шкафчики на кухне. Карандаш со свинцовым грифелем, заложенный в блокнот для записи покупок? Это выглядело бы оскорблением: черный жирный грифель, стирающийся от легкого прикосновения резинки, — и вот так запросто можно стереть всю мою жизнь?!
А мне нужно было навечно врезать в людскую память свое послание.
Я выключил телевизор: пошлые титры передачи были недостойны столь торжественного момента. Переворачивая все вверх дном в поисках ручки, я вдруг подумал: а почему бы не воздать честь этой минуте, открывающей мне двери в вечность? Моего скудного воображения хватило лишь на «Реквием» Моцарта. Какая разница. Нынче вечером я могу позволить себе все что угодно, даже прибегнуть к шаблону.
По комнате медленно разлился «Dies irae».[35]
Наконец в одной из картонок в чулане я обнаружил старую перьевую ручку-самописку, давно высохшую, с остатками синих чернил в капсуле. Я смочил кончик пера и почиркал им по смятой бумажке: перо царапало, но все же кое-как, медленно, возвращалось к жизни; итак, все в порядке, я смогу высказаться.
Сначала черновик. Я не имею права на помарки в таком письме. Помоги мне, Моцарт!
Хотелось бы сказать вам, что жизнь прошла мимо. Но другие уже сделали это до меня. Никто тут не виноват. Я не желаю, чтобы чужие безразличные люди присвоили себе мою смерть. Мир не причинил мне зла, он всего лишь разочаровал меня. Не приходите на мои похороны. Пусть мои друзья выпьют в мою честь, пусть другие порадуются, я всех любил, но теперь оставляю вас в вашей клоаке…
Это еще что такое? Неужто виолончель?.. Как странно… Значит, эти кошмарные звуки, доносящиеся из верхней квартиры, исходят от виолончели? Теперь я наконец понимаю сегодняшнюю интригующую встречу на лестнице; вот оно что было в том продолговатом кожаном футляре. Сосед даже не соблаговолил поздороваться. Так это виолончелист. Ну ладно, желаю ему мужества, своему соседу. Начинать учиться игре на виолончели, в таком возрасте… Подумать только: люди еще уповают на какие-то перспективы в этом подлом мире!
Вот как раз то, что мне требовалось, — утопия. Состязательный дух.
Я перечитал свой первый опыт. Мне очень понравилась фраза «Оставляю вас в вашей клоаке», но она принадлежит не мне. Ее написал Джордж Сендерс перед тем, как разнести себе башку из револьвера. Не хватало еще заделаться плагиатором; нет, это было бы слишком глупо.
Вместо того чтобы швырнуть скомканные листки в мусорную корзину, я сжег их, а пепел смыл в унитаз. Револьвер, лежащий на виду, на журнальном столике, придаст мне вдохновения. И мужества.
Пусть все, кто будет пить за мою кончину, нальются допьяна. Другие не преминут оплакать меня, и я уже сейчас, стоя одной ногой в могиле, проклинаю тех, кто осмелится проливать по мне слезы.
Так…
Почему бы и нет.
И все же непонятно, зачем я так настаиваю на этой пьянке. И к чему столько враждебности, это лишнее. Все это не объясняет моего поступка. А впрочем, должен ли я его объяснять?
Ну-ка попробуем написать получше.
Поймите меня. Я страдаю, и никто никогда не узнает отчего. Я мог бы сказать себе, что жизнь — всего лишь один круг карусели, грубый нелепый фарс, который длится одно краткое мгновение, но не в этом дело. Я расстаюсь с жизнью потому, что у меня нет выбора; так человек идет к зубному врачу, когда боль становится нестерпимой. Я любил вас — тех, кто прочтет это письмо. Никто из вас не причинил мне зла, но я никогда не умел просить о помощи. Мне только что исполнилось сорок, а я всегда, даже будучи ребенком, скучал и тяготился своим существованием, и эта скука, усугубленная физическим угасанием, страшит меня. Одно лишь воспоминание о…
Мне чудится, будто он возит смычком по моему спинному мозгу… Господи, учиться играть на виолончели в таком возрасте!.. Какое самомнение!.. Какая глупость!.. Вот что заставляет меня ненавидеть весь род людской. Этот мерзавец наверху ни на секунду не задумался о том, какой момент я сейчас переживаю. Попросту говоря, самый последний. А он знай себе терзает инструмент, перепиливая мне нервы один за другим; такое впечатление, будто он делает это нарочно. Ему даже удается заглушать и уродовать своими омерзительными визгливыми звуками моего Моцарта… Сразу вспоминается бормашина дантиста или скрежет шестеренок старого будильника.
Я вскакиваю с места, кружу по комнате, злобно пинаю стул. Пытаюсь снова писать и вижу, как мое перо сплющивается и протыкает бумагу в тот самый миг, когда сосед приступил к кошмарному пиццикато. Мне пришлось сжечь свой листок, но это меня не успокоило, напротив. Нужно все начинать сначала!
Презренные ползучие твари! Я навсегда похоронил мысль о гармоническом существовании рядом с вами и потому запрещаю вам хоронить меня; нет ничего лучше мертвого тела, оставленного на этой земле, чтобы хоть этим искупить жалкие несчастья его бывшего обитателя. Если бы вы знали, как мне хочется заорать во все горло!