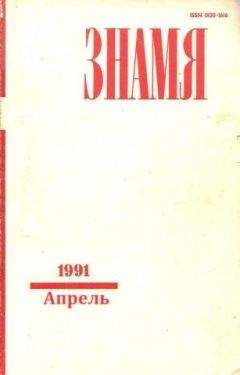Если же мне удавалось пройти Неглинную до Метрополя, я вживался в чужой коллектив как в свой, я был его телом, кровью, отторгнуть меня становилось практически невозможно.
Совершалось чудо из чудес: пройдя десятичасовой путь от дома, я вступал победителем на Красную площадь. «Москва моя, страна моя, ты самая любимая…»
Гремели репродукторы, звучала музыка, марши, все цвело красным цветом.
И хоть проходил я всегда далеко от Мавзолея — близкие колонны формировались, наверное, из других, надежных коллективов, — но и это никак не портило моего праздника. Зайдя за буровато-красные стены Исторического музея, я, подобно остальным, поворачивался, вытягиваясь в сторону Мавзолея: «Он, Сталин, там? Он смотрит? Он приветствует? Ура ему! Ура! Ура!»
«Он лукаво улыбнется, он посмотрит на народ, эх, много Швернику придется… Эх, много Швернику придется пор-ра-бо-тать в этот год!» Известно, какая это работа — давать ордена. А мы и тем уже награждены, что тут, рядом со Сталиным.
Пускай ничего не видно, мы все, и я в том числе, домысливали, представляли, почти уже наяву видели, что вон он! Да вот же! Ну, в середине, машет нам! Ура! Ура! И на призыв громкогласный из репродуктора, звонкого, жизнерадостного, почти ликующего казенного голоса, кричавшего еще прежде нас: «Любимому вождю всех народов, генералиссимусу Сталину — ура!» Мы немного визгливо, мелковато, в сравнении с его поставленным дикторским голосом, но очень искренне, с энтузиазмом подхватывали: «Ура-а-а!» Те, кто перебрал с выпивкой, кричали громче.
— Вождю мирового пролетариата, товарищу Сталину — ура!
— Ура! Ура! Ура!
Мои андреевы, маленковы, шверники, ждановы бледнели в свете его всепобеждающей, немного лукавой улыбки, но про них сейчас никто и не помнил. Их тащили лишь потому, что они рядом с ним, иначе все бы несли только его, лучшего друга советских детей, советских рабочих, советских летчиков и советских спортсменов.
«Приезжай, товарищ Сталин, приезжай, отец родной!»
— Генеральному вождю всех времен и народов, великому Сталину — ура!
— Ура! Ура! Ура! — кричал я что было мочи, срывая голос, ах, как я его любил! Сказали бы мне тогда, вот тебе жизнь и вот тебе смерть, но если ты умрешь, он за тебя будет жить! Не задумываясь, сразу бы крикнул на всю площадь; Я готов! Да все готовы! Скажите лишь, кликните! Да за него, такого родного, чтобы лишь он был всегда и жил вечно.
«На дубу зеленом, да над тем простором два сокола ясных вели разговор, а соколов этих люди все узнали; первый сокол Ленин, второй сокол Сталин!»
Конечно, как было со всеми и всегда, мы напротив Мавзолея невольно замедляли шаг, и тут начинали нас подгонять те, кто стоял в разделительной цепочке.
Так, наверное, полагалось, иначе вышел бы затор. Люди в темных долгополых плащах, в одинаковых, как мне казалось, кепках и в чем-то сами неуловимо одинаковые одинаковыми голосами покрикивали, почти приказывали: «Быстрей! Не задерживаться! Не-за-дер-жи-вать-ся!»
И мы, подгоняемые, но вовсе этим не смущенные, ускоряли шаг, а поравнявшись с Лобным местом, уже бежали, мы все время выворачивали головы назад, еще желая ухватить невозможное, то есть увидеть родного Сталина на отдаляющемся Мавзолее.
Испытывая оголтелый, почти щенячий восторг оттого, что я побывал ТАМ, что видел ЕГО, что впитал его образ и даже получил ответный всем, но и мне взмах его руки, я отдавал своих андреевых, маленковых, шверников, ждановых за Василием Блаженным в чьи-то торопливо протянутые с заводского грузовика руки, вовсе без сожаления видя, как их плашмя валят друг на друга, небрежно швыряют на дно кузова, лицом в бензиновую грязь.
Они свое отработали до будущего года. Да и будут ли на будущий? Все они, мельтешащие вокруг НЕГО, менялись, и лишь ОН один был всегда.
Наполненный святой любовью к нему, каждой клеточкой обновленный, возрожденный для новых побед в борьбе за светлое будущее, я бродил по улицам, засоренным веточками деревьев, что несли на демонстрации с привязанными к ним матерчато-зелеными искусственными листьями и цветами, приятно шуршащими обертками от мороженого, пил сладкую шипучку, продаваемую в бутылках с грузовиков, заедал сладкой булочкой, и, все растворялось во мне, и я сам растворялся в окружающем, и это было то самое счастье, в котором нельзя было усомниться, что оно настоящее.
Однажды, возвращаясь с такого праздника, я не нашел для метро билета и денег тоже не нашел. А сил уже идти до вокзала пешком у меня не оставалось. И я смухлевал, бросив в автомат, выдававший бумажные билетики, вместо двух монет по двадцать копеек трехкопеечные монеты, Билет тогда стоил сорок копеек.
Были в Москве два таких чудо-автомата: один на станции метро «Комсомольская», а другой здесь, в центре.
Кстати, можно было бы сделать и иначе, подобрать, скажем, билетик посвежей да и сунуть обратным, ненадорванным концом — не всегда, но сходило. В крайнем случае баба, стоящая на контроле, не в силах тебя догнать, выдаст сапогом крепкий поджопник, и ты с такого благословения прямо-таки влетаешь в мраморный, сверкающий золотом зал.
Ну, а в этот раз, не помню уж почему, я бросил в автомат медяки. Они такого же размера, как и двадцать копеек, и автомат на них среагировал, затрещал, зафырчал, но билета так и не выдал. Бдительный был автомат, что и говорить. Мне бы поскорей убраться, но я ждал: наверное, в то время я еще верил в чудо-технику. Чья-то властная рука из-за моей спины нажала на кнопку возврата; и выпрыгнули всем напоказ мои стыдные медяки.
Та же рука, это был человек в гражданском, подхватила меня и быстро затолкала в туалет, кстати, вполне красивый, просторный и, кажется, даже в мраморе.
Вот уж сколько проезжал тут, в метро, к Сталину на Красную площадь, но ни этой крошечной деревянной дверки не видел, ни туалета не подозревал. Только в тот момент мне было не до рассматривания. Прямо от входа я получил резкий удар в затылок и полетел плашмя по гладкому полу (да, теперь я припоминаю, что это был мрамор!) в самый конец комнаты и стукнулся о стенку.
Человек сказал: «Ну, тебе в праздник пятый угол показывать?» И снова последовал удар, когда я захотел подняться, я снова полетел, потек по полу (вот теперь я убежден, что он был мраморный, тот пол: здорово же я по нему скользил) и снова стукнулся головой о противоположную стенку. Номер с такими полетами у моего обидчика был отработан. Так бил он меня, методически, но не зло, не ожесточенно, а скорей, профессионально и даже радостно минут десять, повторяя одно: «Пятый угол тебе в праздник показать?»
А потом он выкинул меня через ту же дверцу, и я побрел с окровавленным лицом и расквашенным носом в метро, потом на электричку. Нос я задирал вверх.
Я сглатывал кровь и тихонечко поскуливал, хотя не было больно. Было жалко себя. Пожаловаться, уткнуться в чужую теплую подмышку и то некому. Ни здесь, ни дома, нигде. Только оставался один самый близкий человек, Сталин, с которым я сегодня встречался, как с лучшей родней. Да ведь до него далеко, полгода, день к деньку, до следующих праздников, до самых Октябрьских копить свое время и терпеливо ждать.
Под бравурные марши из репродукторов я умылся из лужицы на асфальте. Полез в карман и вдруг обнаружил два злосчастных медяка. Как они туда попали, непонятно. Но обрадовался, что деньги, хоть и малые, не пропали, а значит, праздник по-своему даже продолжается. С этим и сел в электричку, четвертый вагон от конца, второе сиденье слева.
Билета в электричку я в те годы не брал, ни по праздникам, ни в будни.
В тот пятьдесят третий год, когда он умер, я уже служил в армии, иначе бы, подобно другим, кто жил в Москве и предместье, я неминуемо бросился бы на похороны.
Ведь пробивался же я к нему живому на Красную площадь! Даже без билета!
О том же, что тогда творилось в Москве, я узнал чуть позже из рассказов своих близких, тех, кто пережил и смог на себе почувствовать, каково же оно было.
У меня хранятся два письма, я нашел их совсем недавно, во время переезда из нашего дома в Ухтомской.
Когда моя сестренка получила квартиру, она позвонила и попросила приехать: «Там, в сарае, твои бумаги, посмотри, может, что-то тебе нужно».
Вот тогда, открыв тетрадь с записями по политзанятиям, я обнаружил эти письма. Одно письмо от руководительницы нашего драматического кружка в клубе «Стрела» Марии Федоровны Стрельцовой. В прошлом она была актрисой. Частенько писала мне утешающие письма в часть, где я служил.
Это письмо, с размашистым почерком на одну всего страницу, было послано в пятьдесят третьем году.
«Милый Толя, здравствуй! Получила твое письмо, сразу же хотела ответить, но тут случилось это горе, это наше общее горе. Нет слов, нет мыслей выразить его, разве только без конца повторять: «его нет, нет, нет!» Ты знаешь, что делалось в Москве! Все стремились пройти к нему в Колонный зал для прощания, но многим так и не удалось. Поезда в эти дни шли мимо всех станций, иначе люди затопили бы Москву. Вот уж неделя, как его нет, но ощущение такое, что это неправда, он живет среди нас, все, все о нем напоминает. Он столько сделал, что ни на секунду не забудем его и никогда не сможем сказать: «Он был», а «он есть», и есть во всем: в работе, в личной жизни, в искусстве. Вчера еще раз смотрела кино «Клятва», и весь зал плакал, но он был как живой среди нас. Толя, милый, пока не могу ни о чем писать, наши кружковцы все подавлены, но я приезжала все время к ним и старалась поднять их дух и еще больше работать. Работать, как учил он…»