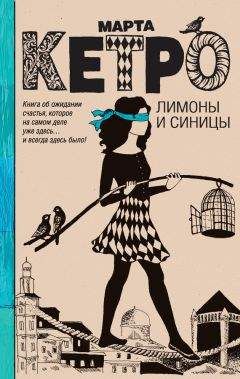– О! Круто. Так и напишешь на могильном камне, под которым я буду лежать дохлым трупом: «Она работала, выё…ваясь из сил».
– Ну всё! – Артюша подхватил меня, отволок в ванную, открыл воду. – Мойся давай! Пойдем гулять! Понятно?
Я послушно полезла под душ.
Когда вышла, застукала Артюшу планомерно забрасывающим в большой мусорный мешок огрызки деревяшек, обрезки картона, исчерканные листы, жестянки-пепельницы, пустые бутылочки из-под клея.
– Между прочим, там есть нужные эскизы…
– Да что ты? Ах я вандал! – сказал Артюша, не останавливаясь. – Одевайся. Надо тебя под солнце вывести. Бледная как глист.
– Это потому, что я в жопе. – Я потащила джинсы из кучи шмоток.
– Ну куда? Платьице надень какое-нибудь, девочкой нарядись! Это как терапия, понимать надо!
Но на девочку у меня точно не было сил. Я натянула джинсы, майку, влезла в сандалики, пристегнула Тарасику ошейник, и мы пошли пешком в центр.
С непривычки шарахаясь от прохожих, я пялилась на солнце, как пещерный житель, и все норовила присесть и закурить.
Артюша отнимал у меня сигареты и тащил дальше, как буксир баржу.
В сумерках мы дошли до городского парка и поломились куда-то прямо через кусты.
– Ты меня завел в лес и бросишь? – спросила я.
– Толковый план, – ответил Артем, и тут мы вышли на центральную парковую площадку с подсвеченными фонтанами, оркестриком, белыми железными столиками и стуликами в завитушках.
Звучала музыка, гуляла публика – нарядная, праздная, сновали официанты в дешевых белых смокингах и вульгарных бабочках винного цвета.
– Какие все чистенькие и красивые, – сказала я и улыбнулась. В последние месяцы я видела только стены мастерских, усталых людей в замызганных спецовках, километры ткани, станки-станки-станки…
Мы сели за столик у самого фонтана, и Артем попытался подозвать официанта. Но видимо, мы не внушали официантам никаких меркантильных надежд, и они акулами проплывали мимо.
– Ну, я девушка не гордая, – сказал Артем и встал, чтобы сделать заказ у стойки.
– Вермута мне возьми, пожалуйста. И апельсиновый сок.
Артем вернулся с официантом, несущим поднос, уставленный тарелочками, дамскими коктейлями в сливочной пене и вазочками с мороженым.
– Это кому все? – ужаснулась я.
– Тебе надо поесть. И кофе еще принесите, пожалуйста. И большую чашку какао.
– Мы не подаем какао…
– Тогда кофе с молоком и шоколадом. Это же нетрудно сделать?
Официант любезно кивнул, улыбнулся и отошел.
– Что ты с ним сделал? Поцеловал?
– Сама подумай, большая уже. Да они нормальные на самом деле, просто замотанные. Ты ешь.
Я ела, не чувствуя вкуса, не могла проглотить кусок и выглядела, должно быть, как гусыня, подавившаяся презервативом.
Тарасик под столом доел свою порцию мороженого и теперь, фыркая, вытирал усы об мои джинсы.
– Так нельзя, – воспитывал меня Артем, – Гло, посмотри на себя, ты похожа на…
– Гусыню. Я знаю.
– Люди учатся и работают, ладно. Уже не мед. Тяжело. Но ты же еще в этот театр вписалась, куда тебе столько? Ты же сдохнешь, оно того не стоит…
– А что стоит?
– Я не знаю, – сказал Артем, помолчав.
– Артюша, да не огорчайся, это у меня наследственное, батя картежником был…
– Ну и что? При чем здесь карты? Типа, надо выиграть, или что, я не пойму?
– Нет. Не знаю, как объяснить… Азартному человеку трудно отказаться от удачного расклада, понимаешь? Какие-то события, возможности, предложения складываются определенным образом в рисунок судьбы, если подыграть, не упустить, и это большой соблазн, понимаешь, закрутить вокруг себя реальность змеиными блестящими кольцами…
– Смотри, как бы она тебя не придушила… реальность эта. Змеиными кольцами. Ты просто не умеешь вовремя остановиться. Или отказаться от двадцать первого апельсина.
– ???
– Как жонглер. Ну, знаешь, в цирке есть такой номер – выходит такой кекс в блестках и начинает жонглировать тремя апельсинами, а помощник, такой, ему все подбрасывает и подбрасывает по одному, и вот уже кекс жонглирует двадцатью апельсинами. Но будет же какой-нибудь двадцать первый, на котором он спалится, и все эти оранжевые штуки обвалятся ему на голову… Врубись.
– Тоже да. И что теперь? Я тебя цитатой сейчас добью: «…не случайно в одной из средневековых притч рассказывается о жонглере, который не умел иначе славить Богородицу, как только показывать фокусы пред ее образом…»
– Ладно, добила. Только поезжай куда-нибудь, отдохни хоть неделю, а то нечем будет показывать фокусы. От тебя уже и так одни уши остались…
Но я никуда не поехала. Мне было жаль городского сентября – ясного неба, багряных листьев, горького дыма.
В училище было почти пусто – вовремя приступали к учебе только первокурсники, салаги, все остальные тянули, подворовывая неделю-две у практики, которая тянулась до середины октября. Делать наброски и писать этюды можно где угодно, не обязательно чахнуть в стенах родного учебного заведения.
Те, кто приехал, с утра до вечера торчали в зоопарке, наших студентов туда пускали бесплатно, а зоопарк был почти хорошим – до холодов копытные разгуливали по огороженным лужайкам, у карликовых кенгуру была громадная резервация, засаженная густыми кустами (и поэтому посетители зоопарка редко встречали карликовых кенгуру – те ныкались по густым кустам до ночи), тропическим птицам тоже отгрохали просторный вольер, и только бурый медведь маялся в тесном бетонном карцере, но к будущему лету и ему обещали улучшить условия заключения.
Артем остался в училище дописывать какое-то монументальное полотно, а мы – Майка, я, Тарасик и два парня с Артюшиного курса, Кирилл и Солнцев, – рисовали зубров.
Тарасик конечно же зубров не рисовал. Тарасик таскал у нас из-под рук ванночки с медовой питерской акварелью и пожирал ее.
Солнцев, высокий, нескладный, похожий на карточного джокера – вытянутый подбородок, узкие губы, ехидный взгляд, – изводил пса нотациями:
– Тарас! Тарасик! Что же ты тянешь в рот всякую мерзость?! Ты же ученая собака, тебя даже в зоопарк пускают…
– Мало ли кого в зоопарк пускают, – пожала я плечами. – Тарасик, фу!
Тарасик принял невинный вид, но синий от ультрамарина язык не оставлял никаких сомнений в преступной деятельности собаки.
– Ах ты гаденыш! Тарас, ступай в сумку и сиди там, пока не позову.
Тарасик, повесив нос и поджав хвост, поплелся к большой брезентовой котомке, в которой я носила всякие художнические приспособы, заполз в нее и печально затих.
– Нет, это не собака! Это бес! Бес!
– Что ты к нему прицепился, Солнцев? Отстань, он и так из-за тебя попал… в сумку, – проворчал Кирилл.
– Скажи мне, мой король, много ли ты видел собак, которым можно сказать: «Пойди в спальню, там, слева от кровати, стоит тумбочка, а на ней лежат книги, так вот, принеси ту, в синей обложке»? И чтоб собака принесла?
– Ну, ты преувеличиваешь, – улыбнулся Кирилл.
Солнцев дразнил его королем Артуром за броскую кельтскую красоту – он был высоким, широкоплечим, с темными, вьющимися волосами, ярко-синими глазами и кожей, белой и нежной, как у девушки. К тому же Кирилл обладал редким даром рисовальщика, да и писал изрядно – он был одним из самых сильных на курсе.
При этом по характеру Кирюша походил, скорее, на мелкого бухгалтера из заштатного немецкого городишки, чем на художника и красавца, – тихий паинька, скромный, даже чопорный, словно мозги всей этой роскоши пересадили от другого человека. Когда наши бойкие девицы без стеснения вешались ему на шею, он возмущенно отчитывал их: «Ты что, разве можно так себя вести?»
Он был совершенно хрестоматийным хорошим человеком, просто живой пример – искренний, внимательный, всегда готовый помочь. Он всегда «вел себя прилично», а в нашей среде именно это выглядело наидичайшей эксцентричностью.
– Ничего подобного! Смотри. Тарасик, позови Кирилла!
Тарасик, покосившись на Кирилла, молча, с брезгливой доброжелательностью, смотрел на Солнцева из сумки.