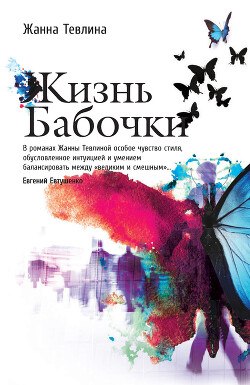На пятницу было назначено две встречи с авторами, и надо было рано встать. Он не могла уснуть. Петя читал и никак не гасил свет, и она молча злилась. Он уже привык вставать, когда захочется, но если она об этом напоминала, раздражался, мол, она тоже не на заводе пашет. Она громко вздохнула. Петя оторвался от книги.
– Тебе когда завтра?
– К десяти.
– Офигеть! Ну, чего ты не спишь тогда?
– Не спится…
– А чего тебе не спится?
Он повернулся на бок и обнял ее.
– Думы замучили…
– И о чем думы?
– Представляешь, что наш Мансуров учудил?
Она резко присела на кровати, невольно скинув его руку.
– И чего он учудил?
– Клыковскую рукопись зарубил, и теперь подавай ему другого автора.
– Ну а ты тут при чем? Пусть Витошин заморачивается.
– Петь, ну какой Витошин? У него дела государственной важности. Он об этом и знать не знает.
– Я не пойму, кого надо искать-то?
– А я знаю?
– А чего ты так распереживалась? Первый раз, что ли?
В Петиных словах ей почудилась подозрительность. Зря она так бурно возмущалась, это действительно звучало неестественно. Надо было быстро сворачивать эту опасную тему, но и обрывать разговор резко тоже нельзя было. Она совсем запуталась и почему-то никак не могла остановиться.
– А вот представь себе, первый раз. Ты когда-нибудь слышал, чтобы человек сны записывал?
– Тоже мне, Вера Павловна. Зеркало русской революции.
Маня хмыкнула.
– Зеркало – это Толстой, а Вера Павловна – Чернышевский. А вот деревня – это ты.
– А твой Мансуров – не деревня?! Я, может, тоже завтра встану утречком, какой-нибудь бред начирикаю и скажу, что это великое озарение и надо по нему срочно написать пятитомник.
– Ты вначале начирикай, а потом говори. Между прочим, в его снах что-то есть…
Петя приподнялся на локте и внимательно на нее посмотрел.
– Ты что, серьезно?
Она отвернулась и проговорила нарочито небрежно:
– Ну, конечно, не шедевр, но что-то такое…
– Какое, Мань? Скоро ты сама с этим Мансуровым рехнешься…
У нее перехватило дыхание, то ли от предвкушения чего-то, а может, от страха быть разоблаченной. Но ощущение было таким головокружительным, что перевешивало страх.
– При чем тут это? Автора искать мне по-любому… Я ж не скажу Витошину, что это бред и писать ничего не надо.
Петя молчал, и она уже раскаивалась, что начала разговор. Главное, что она никак не могла понять, зачем его начала. Ведь не собиралась, даже в мыслях не держала. А может, и держала… А потом в какой-то момент расслабилась и вот так нелепо выдала себя. И опять пронзила вина, что мучает Петю. Последние дни казалось, что все прошло, что было просто наваждение от усталости, от неустроенности, от всего вместе взятого. И вдруг сорвалась. Ей почему-то все время хотелось о нем говорить. И Ленке Кудрявцевой зачем-то проболталась, хотя когда рассказывала, казалось, это обычный обмен сплетнями. А Ленка вполне могла что-то такое почувствовать, что-то унизительное для Пети.
– Мань, а может, Вольской позвонить?
– Какой Вольской?
– Как какой? Я ж тебе рассказывал. Училась со мной. С восьмого по десятый.
– Журналистка, что ли? Театральная…
– Ну да.
Действительно, с этой Вольской Петя ей когда-то все уши прожужжал. Они смотрели какую-то передачу по телевизору, и там ведущий представил гостью, журналистку и театроведа. Петя ее узнал еще до того, как назвали ее имя. Он так обрадовался, вскочил, тыкал в экран пальцем, кричал, что они в одном классе учились. Все якобы уже тогда знали, что она страшенный талантище.
– А чего ж ее никто не знает?
– Как не знает? Видишь, даже в телевизор пригласили.
Маня тогда не поленилась и купила журнал «Современный театр». Там была статья этой Вольской о постановке польского режиссера на сцене МХАТа. Что-то в этой статье было, что вызвало даже некоторую зависть, но потом она быстро о ней забыла.
– А при чем тут Вольская? Она ж вроде при деле.
– Решетов с ней общается. Говорит, вроде у них там копейки платят, и она всюду, где может, подрабатывает.
– Как же так? Ведь она такой талантище…
– Ладно, не завидуй. Это только Клыковым хорошо платят, а она не Клыкова. Я, конечно, не знаю, может, ей это даром не надо. Но спросить можно.
Вольскую Маня узнала сразу. Она быстро шла широким мужским шагом прямо к месту, где Маня сидела. Одета она была в светло-коричневый строгий костюм с юбкой чуть выше колена, которая почему-то придавала еще большую строгость ее силуэту. Взгляд у нее был отстраненный и сосредоточенный, и Маня, приготовившаяся к обмену любезностями, растерялась и быстро убрала улыбку. Вольская протянула ей руку, спросила:
– Как дела у Пети?
– Спасибо, все нормально. Трудится в поте лица.
– Преподает?
– Почему преподает?
Вольская улыбнулась уголками губ.
– Мне всегда казалось, что он пойдет в науку.
Эти слова неприятно кольнули, как бывает, когда случайно наступают на больную мозоль.
– Да, что вы, какая наука! А семью кто будет кормить?
– Значит, я ошибалась.
– Кстати, он велел передать вам большой привет.
– Взаимно. Вы хотели узнать мое мнение о рукописи.
Она начала копаться в своей сумке. Сумка была объемной, бесформенной и очень потертой и совсем не вязалась со строгим костюмом. И лицо ее при ближайшем рассмотрении оказалось дубленым, морщинистым, немолодым, и если бы Маня не знала ее возраст, то не смогла бы его определить.
– Я тут вначале что-то пыталась выписывать…
Она вытащила какие-то бумажки и разложила их на столе.
– Ну, если в двух словах, это, конечно, бред.
– Вы имеете в виду сон?
– Нет, я имею в виду труд госпожи Клыковой. А вот в самом сне, если это, конечно, сон, что-то есть.
– Правда?!
Вольская быстро глянула на Маню и улыбнулась. Глаза ее сузились до щелочек, полностью скрыв зрачки. Маня спросила осторожно, боясь спугнуть собеседницу.
– И что вы думаете?
– Мне сложно сказать, не видя автора. Автора первоисточника…
– Так можно встретиться!
Маня запнулась, испугавшись собственной поспешности.
– …если вы, конечно, не возражаете.
– Я не возражаю. Только на следующей неделе. Если можно, в начале. Вы тогда назначьте время и сообщите мне.
Этот сон Маня уже успела выучить наизусть. После первого прочтения впечатление было странным. Она даже испытала некоторое неудобство за автора. Потом читала еще и еще, и сон постепенно становился видимым. Она представляла одинокого маленького мальчика, которого никто не любит. Мальчик вырастает и, покинув родные места, много скитается и страдает, чтобы доказать всем, что он совсем другой и тоже достоин любви. И вот, обновленный, он возвращается и идет к своим обидчикам. Теперь он выстрадал право на другое к себе отношение. Но люди остались такими же, и, значит, зря он страдал и зря надеялся, и вообще все было впустую. Она совсем не так представляла Мансурова. В нем, оказывается, был надлом, какая-то страшная тайна, которую очень хотелось разгадать, и было страшно ее разгадывать. Петя тоже много страдал, но тайны в нем не было, и ей было стыдно это осознавать, и было жалко Петю. Но когда она об этом думала, накатывала тоска и обреченность. Было обидно, что уже не суждено испытать новых ощущений, потому что единственный данный ей жизненный шанс был так бездарно использован. Она ошиблась, и нет права что-либо менять.
Они уже полчаса сидели за столиком, и за это время три раза подходил официант. Мансуров заказал минеральной воды себе и ей и периодически подливал понемногу в свой стакан, а Маня уже всю воду выпила и сидела, уткнувшись в меню. Она нервничала. Цены в этом ресторане, с виду ничем не примечательном, оказались запредельными, но что-то заказать нужно было для приличия, хотя есть совсем не хотелось. Официант подошел в четвертый раз и встал рядом с Мансуровым. Тот медленно повернул голову: