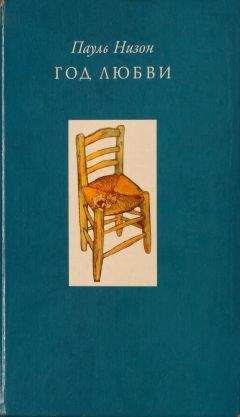— Вечер добрый, господин майор, — сказал этот мужчина сиплым голосом старого пьяницы, который плохо вязался с его молодым лицом и соломенной шевелюрой. Был он рослый, крепкий, одет в красный свитер, лицо тоже красное, опухшее, маленькие раскосые глазки смотрели плутовато. И вправду молодой, еще и тридцати нет, и развлечению, каковое сулил приход посетителей, явно очень рад. Прямо из-за стойки, с бутылкой шнапса в руке, он завел разговор, и голос, звучавший будто скверная гармошка, казалось, заставлял воздух вибрировать.
Он поставил на стол рюмки и бутылку и подсел к ним. Преувеличенно широкими жестами разлил выпивку, движения были не просто приглашающие, но здорово смахивали на объятия. Штольц заметил, что хозяин (если это вправду хозяин) изо всех сил старается развеселить посетителей. Ему и прежде случалось видеть такую нарочито шумную оживленность у людей, которые боятся одиночества и цепляются за любую возможность отвлечься.
Паршивое время года, вздохнул хозяин, уныло, пасмурно, впору с ума сойти, все дни похожи один на другой, иной раз вообще не поймешь, отчего кругом сплошной туман, — может, собственные глаза виноваты? Нет уж, это не по нем, но и зимняя спячка ему тоже не улыбается, Боже сохрани. Он тараторил без умолку, не иначе как от страха перед тишиной. Поминутно хватался за рюмку и, прежде чем осушить ее, чокался с ними: дескать, ваше здоровье! — вздыхал и продолжал работать языком.
Не привык он к здешнему климату, к здешним местам — пропади они пропадом! — и уж тем более к бесконечной зиме. Часто с тоской, да-да, именно с тоской вспоминает войну. Он тогда в Италии был. «Когда я был в Италии», — снова и снова повторял хозяин. Там у него была девушка. «Генрих, — на прощание сказала она, — если ты когда-нибудь вновь приедешь в Италию…» Конец фразы утонул в невнятном бормотании. Анджела — так ее звали, сказал он, и она любила его. Глаза у него налились кровью, голос вконец осип.
Майор не говорил ни слова. Пил маленькими ровными глотками, не обращая внимания на белобрысого, и рюмку ставил осторожно и решительно, всегда на одно и то же место, будто на столе таковое было особо предусмотрено. Временами он бросал на говоруна холодный пристальный взгляд, который не выражал ни участия, ни враждебности. Разве что регистрировал нарастание и степень опьянения. Когда он порой доставал из жилетного кармана часы и бегло смотрел на циферблат, казалось, словно он ставит над молодым выпивохой какой-то эксперимент.
В трактирном зале Штольцу было жарко и как-то муторно. Он будто стоял с этими двумя мужчинами на плоту, причем ни об одном из них толком ничего не знал. Сейчас даже видмайеровский дом отступил далеко-далеко — мыслями и то не дотянешься. Существовал лишь этот лесной трактир, лишь этот зал, лишь столы и лавки, с их духовочным блеском, лишь мухи с их жужжанием, а еще — то громче, то тише, смотря как наставишь ухо, — болтовня краснолицего блондина, который побывал в Италии, в войну, и теперь мысленно вновь находился там.
Штольцу вспомнились фильмы про войну, которые он видел школьником. В тех фильмах брали и расстреливали заложников, были там военно-полевые суды, атмосфера кошмара и смертного страха, ночные налеты партизан, геройская гибель, страдания вдов и без конца — бравые немецкие патрули, немецкие командующие, немецкие оккупанты, наводившие ужас уже одними только своими мундирами, одной только безоговорочной дисциплиной. И этот вот белобрысый был из их числа, а теперь мечтал вернуться в прошлое, потому что тогда в разоренном краю, запуганном штурмовой авиацией, ему было хорошо. Он знал там девушку по имени Анджела и любил ее.
— «Генрих, — на прощание сказала она, — если ты когда-нибудь вновь приедешь в Италию», — в надцатый раз просипел трактирщик голосом скверной гармошки, от которого вибрировал воздух. Неожиданно в дальнем Конце Зала отворилась дверь, на пороге появилась молодая женщина, беременная, с изможденным лицом.
— Генрих! — пронзительно крикнула она, и белобрысый вздрогнул. Вымученно и виновато улыбнувшись майору своими красными кабаньими глазками, он повернулся к женщине, очевидно, это была его жена.
— Да иду я, иду! — гаркнул он и грузно поднялся на ноги.
Теперь Штольц услышал стук топора. Похоже, за домом кто-то колол дрова.
— Генрих тут в зятьях, — сказал майор, — раньше он водил грузовик. Пойдемте, пора уже.
Снаружи царила черная ночь, моросил дождь. Прошло несколько минут, прежде чем глаза Штольца привыкли к потемкам.
Ночью моросящий дождь сменился снегопадом. Снег, правда, не лег по-настоящему, для этого было недостаточно холодно, но все же, подойдя утром к окну, Штольц увидел новый ландшафт. Местами снег припудрил поля, и эти легкие снежные полосы и брызги на красновато-бурой почве сообщали окрестностям нечто ослепительно яркое и одновременно морозное. Земля за окном отрешенно лежала в полной недвижности и нетронутости — точно под наркозом.
После завтрака Штольц ушел к себе в комнату и опять стал читать ван-гоговские письма.
«Я чувствую в себе силу, которую необходимо развивать, огонь, который необходимо разжигать, а не гасить, хоть и не знаю, к какому концу это меня приведет, и не удивлюсь, если он будет мрачен. Чего можно пожелать в такое время, как сейчас? Какова сравнительно наиболее счастливая судьба? Бывают обстоятельства, когда лучше быть побежденным, а не победителем», — писал Винсент из Гааги своему брату Тео в Париж. И далее:
«Мне кажется, художник — существо счастливое. Ведь он, коль скоро мало-мальски умеет передать то, что видит, живет в гармонии с природой. А это немало — знаешь, что нужно делать, материала сколько угодно, и Карлейль[8] по праву говорит: “Blessed is he, who has found his work”.[9] Если смысл этого дела в том, чтобы принести мир и покой, то бишь сказать sursum corda, “возвысьте сердца”, то оно воодушевляет вдвойне — тогда ты не столь уж одинок, потому что думаешь: конечно, я сижу тут в одиночестве, но, меж тем как я сижу тут и помалкиваю, дело мое, может статься, говорит с моим другом, и тот, кто видит его, не обвинит меня в черствости».
Винсент стал художником. Жил в Гааге и что ни день бродил по городу в поисках натурщиков. Натурщиками он нанимал большей частью приютских бедняков, потому что они обходились намного дешевле профессионалов, но прежде всего потому, что его тянуло к этим людям. Он и одевался как мастеровой, а не как художник, и чувствовал себя отнюдь не богемно, он должен был тяжко трудиться, не теряя времени попусту, считал себя не вправе да и не хотел вести так называемую богемную жизнь. С гаагскими художниками не общался.
У него была теперь собственная студия, и жил он вместе с одной женщиной, в прошлом проституткой, которая уже имела ребенка и ждала второго. С ними Винсент делился скудными средствами, какие брат ежемесячно присылал ему из Парижа. Сам сидел преимущественно на кофе, хлебе и табаке, почти не выпуская трубку изо рта. Так он экономил деньги на необходимые рисовальные принадлежности. Работал поистине яростно, нужно было страшно много наверстать. «Надеюсь, я не выдохнусь, не ослабею, что бы ни произошло, — писал он, — надеюсь, что на худой конец выручит известное трудовое рвение, даже неистовство, вот как корабль волной швыряет через риф или через песчаную мель, и он, вместо того чтобы утонуть, даже выигрывает от ненастья».
Чем увереннее Винсент ощущал себя в работе, тем свободнее становился и тем больше утрачивал экзальтированный проповеднический тон и религиозный фанатизм. Штольц читал:
«Если бы жизнь была так проста, если бы все обстояло так, как в истории о честном Хендрике или в заурядной пасторской проповеди, то было бы нетрудно пробить себе дорогу. Но, увы, дело обстоит, скорее, куда сложнее, и в чистом виде добро и зло встречаются не чаще, чем в природе совершенная белизна и совершенная чернота. Однако что бы там ни было, а надо стараться не подпадать под власть непроглядной черноты — абсолютной скверны, а еще более надо остерегаться белизны повапленных стен, ибо она есть лицемерие и вечное фарисейство. Тот, кто стремится следовать своему предназначению, а главное, совести и честности, по-моему, вряд ли совсем уж заплутает, хотя, конечно, не минует ошибок, и тяжких раздумий, и слабостей, да и совершенства достигнет не вдруг. И, по-моему, при этом в нас оживут чувство глубокого сострадания и милосердие, более всеохватные, нежели скупо отмеренные ощущения, по долгу службы свойственные пасторам. Человек сумеет очистить свою совесть, и она станет гласом лучшего и высшего “я”; которому будничное “я” будет прислужником. И тогда он не впадет в скептицизм и цинизм, не пополнит собою ряды зубоскалов».
В письмах из Гааги Винсент часто говорил и о природе. Помимо зарисовок людей он начал делать небольшие наброски ближайших окрестностей. В каталоге произведений Штольц нашел репродукцию под названием «Вид на крыши». Двускатные кровли, точно пушки или подзорные трубы, стремились к горизонту, брали горизонт на прицел всеми своими черепичинами и трубами, будто норовили прострелить его собою.