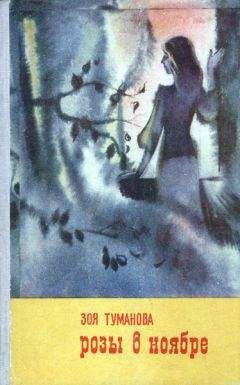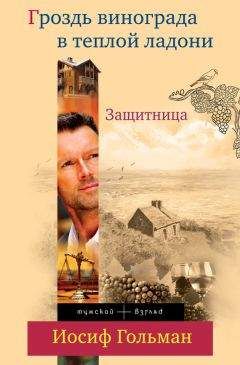Сарвар прикрикнул, покрутил камчу перед злыми носами. Псы, подвывая от обиды, улеглись, положив на лапы лобастые головы.
Завернув Солового, Сарвар поспешил навстречу гостю. И стал на полдороге, узнавая и не веря, что узнал. Сердце подлетело и остановилось в горле: Атамурад! Дед Иннур!
С чем он — с худою ли, с доброй вестью? Зачем он?
Горели в небе красные перья облаков… Всадник приближался в молчаньи; гневно застыло темное, красивое лицо — с крупным выгнутым носом, в серебряном чекане бороды. Осадил коня бок о бок с Соловым. Молча.
У Сарвара свело горло. Запинаясь, проговорил традиционные приветствия, — голоса своего не слышал, только трудное дыханье молчащего старика.
Наконец, тот заговорил — неторопливо, останавливаясь после каждого слова. Так мечут камни в приблудного пса, — выбирая, куда больнее ударить:
— Внучка моя, Иннур, — мишень для твоих стрел, оказывается… Не отпирайся! Об этом кричат со всех крыш! Я здесь, чтобы сказать: не для тебя она!
— Почему? — по-детски растерянно прозвучал вопрос; ненавидя себя до скрежета зубов, Сарвар задохнулся словами: — Тысячу душ отдам за нее!
И услышал смех, тихий и страшный, надменно-поучительный голос: — Пфх! Пламень молнии не греет! Горишь ты, не горишь — что нам? Весь ваш род-племя — нашему не чета… Дом — сусличья нора, только в детях нехватки нет! А мы у людей на виду. Про тои наши, про поминки наши — округа толкует. А ты? — взгляд остро, как нож, уперся в лицо Сарвара. — С пустыми руками — жених?
Сарвар не удержал в груди крика:
— Калым вам нужен, что ли?
Тот не кричал. Поджимая темные старческие губы, еще тише, обдуманней нанизывал слова:
— Калым — нехорошее слово. Некультурное… Сыну моему, Салимджану, повредила бы болтовня о калыме. Не маленький он человек. Какой калым, а? Все, что делается, по обычаю делается. Свадьбу справить — надо, одарить родню — надо. Вот, было, двоюродную племянницу мою отдавали. Жених к свадьбе подарок припас — деньгами шестьсот новыми, рису — восемьдесят кило, муки — двести, сушеного урюка — сорок кило, чаю — кило да пара баранов… А девушка — не порочу ее, но разве внучке моей чета? О свадьбе Иннур вся степь шуметь должна!
— В свадьбе, что ли, достоинство человека? Слава его? — крик разрывал грудь Сарвара. — В мои годы — старший чабан я! Уменье — есть! И эти руки — вот!
Он схватил обеими руками камчу — туго свитую из воловьих жил чабанскую камчу, неизносимую. Чуть задрожала щека — согнул камчу пополам. Атамурад следил за ним, прищурясь, как стрелок.
— Чабан чабану не ровня, — поучал нехотя, лениво. — Есть такие: и меда поест, и руки не завязнут! А ты — дедов внук… Шоди-караванбаши, ха! Другие водили караваны — золото привозили, да… И шали кашмирские, легкие, как сон мотылька. Этот — приезжал, начиненный болтовней. Стихи, сказки — а в халате дыры, кулак пройдет. Всю жизнь за овцами ходил — и блошиной шубы не выходил себе! У других меньше славы, да больше шкурок в сундуках…
— Мой дед, имя его, — начал Сарвар, дрожа, — сердце подкатилось к горлу, он встал на стременах, кричал, не помня себя: — Честен дед мой! Честен! Вот — слава его! Вот — почет!
— Орет! Голову взбесившегося барана съел, что ли? — старик усмехнулся, блеснули сохранные зубы. — Ори, разевай глотку… Собака — проклинала, а волку — что?
И, уже понукая коня, обернув к нему недрогнувшее лицо, сказал отчетливо:
— Запомни, как серьгу вдень в ухо мои слова: забудь о девушке! Имя ее забудь! Не отстанешь — вышибем память из головы! Родство наше велико, а степь молчалива!..
…Дальше все провалилось в глухую тьму…
* * *
Не мог же он так — уткнуться в гриву коню и ждать. Чего? Пока сторгуются? Пока найдется покупщик? Пока продадут солнце?
Помощнику своему, не глядя в глаза, сказал что-то о болезни и, как бывало в детстве, с разбитой, саднящей губой — к деду, к деду!
Шоди-ата в путанице наспех выдуманных причин уловил одно — что Сарвар бросает отару. Временно? Что это значит?
— Эй, жена, чекмень доставай мой, папаху, — плечи старика поднялись углами, он забрал в ладонь бороду. Не смотрел на внука.
Сарвар снова начал было говорить — и замолк. Все слова были ничем — перед этой согбенной спиной…
Он молчал, теребя шапку. Смотрел, как, покряхтывая собирается старик в дорогу.
…Резким словом оборвал бабушкины распевные причитанья. Туго подпоясался. Поднимая таяк, взглянул исподлобья, темным, тускнеющим взором. Сказал:
— Надеждой моей был. Видно, стар я стал, разучился понимать людей. И то сказать: у овцы черное снаружи, у пастуха — внутри…
— Дедушка! Вернусь же я! Вернусь! — Сарвар запнулся под тяжелым этим взглядом. И услышал:
— Молчи, молчи… Сам знаю. Огромна степь, а человеческое сердце — с кулак. Не всякий в силах остаться со степью один на один.
И, выходя, согнутым локтем Шоди-ата отодвинул Сарвара с дороги, как бы ненужную вещь.
…Он и дома не сказал правды. Врал, путался.
Все на него глядело, вопрошая. Глаза матери. Стены, поцарапанные и потертые на уровне плеч сидящих. Старое одеяло с выцветшими розами, большими, точно капустные кочаны. Бурно обрадованная и торопливо затихшая детвора.
Зачем ты здесь, эй, чабан? У него не было слов — ответить.
Не остыл еще чай, налитый матерью, — скрипнула калитка: Бибигуль, соседка. За ситом — свое прохудилось сеть отошла от обода.
Стояла, прижав сито к животу, хихикала, частила словами. (Есть такие мухи — за версту учует открытую рану, примчится, жужжа, сядет, — бередя лапками).
— …известно, дочь — светильник в чужом дому. Чего же им ждать? Джума — неказист, да ловок, такого за полу не схватишь, раз клюнет — побежишь… Ну, да, Болтаев, Шоди-ата вашего выученик… А что — Иннур? И другие такие есть. Больше всего про нее сами Салимовы и шумят. Каждому свое — луной кажется… Рада, не рада? Э, соседка, сами были девушками, скажи, кому замуж не хочется? Шелк на чем зацепится, на том и повис. Свадьба? Зачем же медлить с хорошим делом? Бо-ольшая будет свадьба.
…Есть такие мухи.
Сарвар поглядел на пиалу — чего это держит рука так крепко? Поставил в стенную нишу, старался не плеснуть.
Значит, все уж решено. Значит, скоро. Джума… Он вспомнил серое, словно глиняное лицо, глазки-щелки, глядящие сторожко. Так смотрит коршун, повиснув в пустоте: не отстал ли ягненок от стада?
Нет, нет. Пока еще нет!
Забыв о чае, он выскочил на двор, бормоча бессмысленные слова: „Нет, нет! Пока еще нет!..“
Непонятная сила кружила его по улицам кишлака. Народ у крыльца правления заоглядывался: беда свалилась на степь, что ли? Почему у человека лицо кричит?
…Засветились в просветах листвы беленые стены. Трель звонка царапнула память.
Школа! Мир радости, переплескивающей все пределы. Самозабвенье игры и холодок первой ответственности. Всезнающие, непогрешимые вершители судеб — учителя…
Он по-хозяйски круто рванул на себя калитку.
Директор был у себя. Новый. Незнакомый.
Оторопь неожиданности скоро сменилась на его лице участливым и озабоченным вниманьем. Он выслушивал, не перебивая. Раздумчиво стучал карандашом по столу.
— Что же, сигнал очень важный, товарищ Шодиев. Это наша с вами обязанность — комсомола и школы — пресекать. Пережитки нетерпимы, это — аксиома… Простите, не уловил, — из какого класса девушка?
Выслушав ответ, он как-то суетливо зашевелился, словно путник, сбросивший с плеч промерзлую шубу и подсевший к очагу.
— Так, так, так, да, да, да… Давайте, разберемся во всем основательно, по пунктам. Значит, отсева не было. Школу закончила. Успешно. Это весьма похвально, весьма, И совершеннолетняя. Так, да… Но простите, товарищ Шодиев, — в таком случае вопрос выпадает из нашей компетенции. Женитьба — личное дело, взрослые люди, да… И потом, вы говорили о калыме… А уверены ли вы, можете ли поручиться, что перед нами классический случай калыма, калыма как такового? Подарок к свадьбе — это так естественно! Хотя, говорят, не подарки дороги, а уваженье, но и…
И фразы, округленно-благополучные, покатились, как колеса, одна за другой, — мимо главного, мимо Сарварова непереносимого отчаянья…
Калитка, которую он с такой хозяйской уверенностью отворил полчаса назад, визгнула злобно, как собака, отброшенная ногой. Но есть же еще люди?
Парторг, Максуд Тешабаев, поехал в отары. Надолго…
Он пошел к секретарю комсомола.
— А, чтоб этому старичью в могиле торчком встать! — паренек, розоволицый и остроглазый, ударил по бедрам ладонями.
Сарвар смутно помнил его по школе — Эркин был моложе на три класса; впечатление осталось такое, будо где-то вьется, звенит неугомонный светлый ручей. Комсоргом его избрали прошлой осенью — ни голоса, ни вздоха не раздалось против, все хотели Эркина, бывают такие люди — и в будни с ними праздник.