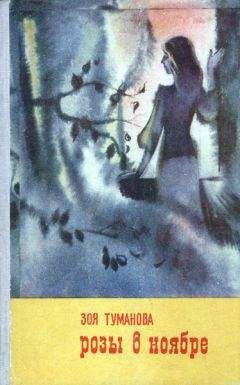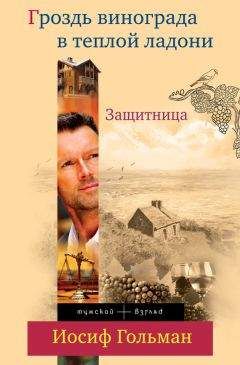Нодира спрыгнула наземь с самой верхней ступеньки. Бросила усмешливо: «Не все коту Карловы Вары!»
К ним уже спешили навстречу, — приложив руку к груди, чинно и долго здоровались. Мальчишки шныряли между взрослыми, таращили глаза, перекликались птичьими голосами.
Сумерки наплывали синевой. На одиноком столбе загорелась желтая лампочка. Хозяева сокрушенно объясняли гостям: клуб мал, не вместил и трети желающих.
Их повезли на большой хирман; автобус, порыкивая, ковылял вслед за ними по немыслимым ухабам.
Несмотря на поздний час, на хирмане работали. Двое цепляли вилами и забрасывали в светящийся прямоугольник дверей груды хлопка, сушившегося на асфальтовой площадке. В глубине двора, просторного, как площадь, светились трактора, хлопкоуборочные машины, — кто-то успел зажечь их фары.
Сарвар прислонился к голубому поцарапанному боку автобуса. Он устал от своего горя. Веткой бы стать, плывущей бездумно на горбатом хребте реки… И почему это чудится, что там, за домами, его степь?
Меж тем, великая суета и хлопотливость овладели всеми; бежал куда-то Луцкий, придерживая полы песочного своего макинтоша; пересекая косые лучи фар, размашисто шагала Нодира. Сарвар услышал знакомый резкий голос «Не так, не так, свет низко!»
И словно возникшие из ее слов, явились люди с факелами; они двигались осторожно, как будто неся на высоких шестах огненных птиц; ветер срывал золотые перья и подбрасывал в черноту неба…
Где-то глухо рыкнул карнай — вак-ваку-вак! Взволнованными гудками заглушили его автомобили — ревели призывно. Толпа густела. Гул ее был подобен гулу большой реки. В толпе началось движенье: люди рассаживались по кругу. Второй круг образовали стоящие на коленях. Оставшиеся устраивались сообразно своим возможностям и рвенью — кто верхом на коне, кто на сиденье трактора, кто на заборе. Перекликались соседи, родственники: с вершин тополей, проснувшись, подали голос грачи: «Крр-а, крр-а, что случилось, эй, люди?»
Музыканты, уже в полосатых халатах, опоясанные вышитыми платками, проследовали в круг, — толпа расступалась перед ними, как вода растекалась. Усаживаясь — скрестив ноги — на бесчисленные курпачи и подушки, они покряхтывали с отвычки, долго прилаживались к инструментам. Сарвар был со всеми — кожей ощущал он сотни человеческих глаз на себе, нескладном; дыхание толпы шевелило волосы, словно ветер. Ради них здесь — все эти люди!
Он всматривался в глаза, полные блеска и ожиданья. Чего ты ждешь — бригадир ли, завфермой? Не ты ли встал до рассвета: в черном стылом небе — ледяные звезды, мучительно съежено тело, расставшись с теплом ватных одеял… И сколько отшагал за день — складки сапог белы от пыли. А сейчас ты здесь: что мы дадим тебе, что?
Девушка в синем комбинезоне, с пятнышком масла на лбу, — такие едят и пьют, не слезая с машины. Старуха, — руки, темные и сухие, подобны извитым пластам сушеной дыни; труд их не сочтен, не измерен… Тоже чего-то ждет от нас?
Он всматривался в их лица со стыдом и раскаяньем: была же ночь, когда мир предстал ему огромным базаром! Нет, эти пришли за тем, чего не купить, не оценить хрустом бумажек, и оно есть, что-то главное, чего не назвать словами…
Сарвар невольно придвинулся к Яхье: мы рядом, играй громче, друг, если ошибется моя рука! А Нодира? Ей — одной кануть в пугающую пустоту этого круга.
…В автобусе задернули занавески. Тускло светилась лампочка в потолке.
«Ну, в такой темноте — с меня не спрашивайте, Нодира Азизовна!» — костюмерша сердито вдевала серьги, звенела монистами, путаясь в них нервными пальцами.
Все чего-то нервничают, а мальчик этот, чабан, дойрист, — как он свел точно углем наведенные брови… Очнется ли он, распрямится ли сегодня? Хватит ли у него сил?
Она подняла руки к глазам, — неистовым красным и синим светом сверкнули камни в перстнях. Руки, многое видавшие руки… Суставы чуть припухли, чуть отвисает у локтя помятая кожа. Руки! Они должны быть как белые лилии, вдруг расцветающие из тонкой кисеи рукавов…
Холодок подкатил к сердцу. В мальчике ли дело? Там — знают ее. Ждут. И нельзя обмануть — многих.
— Ай, да бросьте! — резко выдернулась из рук удивленной костюмерши, так и не застегнувшей последнюю позвякивающую снизку. Прижалась лбом к холодному стеклу, повыше занавески. Черная ночь глянула тысячью глаз. И опять позвал далекий карнай, пронзительно — знакомый вестник радости и торжества.
…Среди пляски тени и света на сером асфальте вспыхнул самый большой факел, — парчовый камзол был на ней цвета огня; сизым дымком вились перья филина на шапочке, звякнули бубенцы запястий, и озорство юности, блеск ее расцвета, безудержность стремлений — повели за собой дойру.
Ветер шумел в вершинах чинаров, там, за забором. Листья слетали ей под ноги — как рыжие птицы.
…Взрыв голосов и ладоней. Конец. У Сарвара горели уши. За спиной его словно шевелилось неспокойное море. Вздохи, покашливанье, шепот…
Биение огромного сердца — сердца толпы — теснило его слух и отзывалось в крови; охваченный незнакомым жаром, он глядел на свою руку, как на чудо. Рука знала! Она успевала за этим золотым веретеном, которое кружил ветер! Значит, ты многое можешь, эй, малый…
— Слушай, сейчас испанский, — шепот Яхьи щекотнул ухо, — держись, парень! Мало, ох, мало репетировали с тобой!
…Факель роняли горящие капли. Шорох листьев был подобен шуму реки. Ночь подкрадывалась из неосвещенных углов.
И она вышла — как ночь: черное с серебром. В волосах тлеет роза, крутые локоны вздрагивают на гордых, приподнятых плечах, в бровях, изломленных, — стон, невозможность…
Пронеслась — и вдруг сломалась в стане; руки разбрасывали, рвали черные кружева, метались, угрожали, звали. И вот словно взорвалась в ней гордость и горе, вскинулась голова, напряглось горло…
— Гляди, гляди, — всхлипывал Яхья над ухом, — это на всю жизнь тебе…
И вот в черном вихре взметнувшихся юбок Сарвар увидел ноги-женщины. Никогда он не думал, что увидит нечто созданное столь совершенно и гордо; словно отлитое из серебра дерзкой рукой мастера. Легко взнесенные на каблуки они ослепили — и погасли. И жар радости переливался, пел во всем теле Сарвара.
…Потом юноша, афганец, выбежал в круг. Кровавым глазом сверкнул рубин на белой чалме — конец ткани упал на плечо. Переливался белый шелк ка крутой спине. Это была она — и не она: юноша, охотник, воин. Прямой, как тополь — и гнущийся; с поступью тигра, с играющими мускулами. Он, как тетива лука, был напряжен и полон упругой силы. И вот — белая птица полетела по кругу, танец, дерзкий, неистовый, жгучий, ошеломлял — и в памяти Сарвара вдруг вспыхнула та, подчеркнутая строка: «Не могу побежденным я жить на земле!»
Испарина легла на лоб, когда он вспомнил себя — с трясущейся рукой, сжавшей отцовские деньги, и после — шкодливо проскочившую там, на почте, мыслишку — не возвращать пока долг, придержать, скопить, посоперничать кошельками…
Нет! Согласиться на такое — значит убить в себе человека. В себе и в ней…
Он сжал зубы — в челюстях отдалась боль. Гремела угрожала, рвалась из рук дойра. Не могу побежденным я жить на земле!
Яхья протянул платок, пахнущий духами и табаком:
— На, утри лоб. И скрепись, парень, концерт будет долгий. Когда так встречают, не знает она усталости…
Концерт был долгий.
Словно все женщины мира прошли перед ними, и в каждом танце представало иное обличье, то хрупко-нежное, как цвет миндаля, то торжественно-величавое, то огненно-страстное; она смешила — и заставляла грустить, и был танец, как самозабвенный полет ласточки в бездонном небе, и танец, как битва, и танец, как повесть о счастье матери, вырастившей сына…
Искры факелов летели и гасли, как будто золотые бабочки складывали крылья. Гул толпы заглушал шорох листвы чинаров. Вскрики. Пристукиванье ногой. Прищелк пальцев, острый и резкий, как звук взведенного курка, — слышались там, за спиной. Как будто танцевал каждый…
У Сарвара затекли руки, ломило спину. «Не могу побежденным я жить на земле!» — веселая ярость двигала его пальцами, пусть этот вечер длится, еще, еще, греми, выстукивая, зажигай, дойра!..
— Катта уйин! — этот первый возглас был как первый камень с горы. За ним — лавиной рушилось: — Катта уйин! Катта уйин!
…Большой танец!
Это — как дастан о любви, сочиненный и пропетый неведомо кем, это — долгая жизнь, вместившаяся в один час… Танцует его каждый иначе, но каждый раз это самое трудное испытание для танцора.
— Эх-хе, было бы — начать с него! — стонал Яхья. — Теперь уже силы отданы, не вытянет…
— Катта уйин! — громом прокатывалось в толпе. И она, Нодира, сделала знак — приметный лишь музыкантам.
Начался катта уйин.
…Гаснет и вспыхивает парча камзола. Облаком взвивается вуаль, и глаза сквозь кисею — как звезды в вечерней мгле.