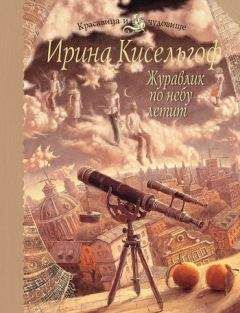Мы шли по улице, все папики пялились на Лизкины ноги и все пускали слюни. Мне стало стыдно за своего отца. Зачем позорить так седую старость? Короче, дедушки, а не пошли бы вы к бабушкам! Лизка всю дорогу хихикала, гордилась собой и стреляла глазками в дряхлых папиков. Между прочим, удачно, иначе слюны было бы меньше. Мне это надоело, и я решил обучить ее хорошим манерам. Замолк навеки. Если правильно молчать, эффект тоже будет правильный. Я добился, чего хотел, мы обменялись настроением. Мое улучшилось, ее ухудшилось. Это тебе за слюни и Сашечку, Лизон! Спи спокойно, детка!
Я задрал ноги и облокотил их о стену. Кровь прилила к моей голове, и я увидел обтянутые прозрачными колготками Лизкины ноги, топающие рядом со мной. Во мне что-то екнуло и отозвалось, где попало. Что за хрень?! Я еле успокоился. Анализируя себя, я понял, что удар по моему воображению был нанесен неожиданно. Залповым огнем. Из-за кустов. Я всегда видел ее в джинсах и трениках с пузырями на коленках. А тут… Перед моим мысленным взором снова замелькали коленки и ноги в прозрачных колготках. Я от них отмахнулся, и моя бедная ручечка бессильно упала… Н-да…
На следующий день я увидел малявку в трениках с пузырями на коленках. Она сопела как карапуз и прятала глазки. Мы поговорили как обычно, и я снова стал нормальным человеком. Мое воображение угомонилось. В общем и целом. По крайней мере, я на это надеюсь.
– Слушай, Лизка, – спросил я. – А че тебя мама Лисенком зовет? Ты хитрюга?
– Ага, – ответила она. – Я умею уходить от ответа.
– Покажи! Мне надо. Опыт буду перенимать.
Она склонила голову набок и умильно заглянула в мои глаза. Я вдруг рассмеялся, будто мне щекотали ребра, а потом ни с того, ни с сего разозлился.
– Не понял, – буркнул я. Она захихикала. Вот салага!
Вскоре я увидел ее стратегию и тактику в действии.
– Лиска, что за привычка оставлять свою обувь посреди коридора? – спросила ее мать.
– Зато на газете. И ни капли грязи на полу. Ни одной капелюшки. Видишь? – Лизка умильно заглянула ей в лицо, и из ее глаз выглянули рожки, по паре с каждой стороны.
– Вижу, – сказала ее мать, сдвигая в сторону газету с Лизкиными ботинками. – Неудобно получилось.
– Из-за ботинок? – притворно удивилась Лизка и скорчила прикольную физию. – Что наделали эти свинтусы?
Свинтусы! Я ухохотался внутри себя. Лизкина мама, по-моему, тоже.
– Я опять об них споткнулась, – засмеялась мама. К чему ей скрывать свои чувства? Она от них не зависит.
Лизка ускакала мыть ботинки, а я пошел в трубу своей аэродинамической улицы. Лег на кровать и стал думать. Я впервые назвал Лизкину мать ее матерью в прямом смысле слова, осознал это, но во мне ничего не екнуло. Я попытался вспомнить ее галактические глаза, а увидел по паре рожек с каждой стороны. И мне вдруг стало так фигово, словно я потерял что-то очень важное.
Надо мной висели облака в точности под мое настроение. Клубы дыма и фонарь красного заходящего солнца. Края облаков тоже отсвечивали красным, и мне было холодно от апрельского ветра. Пришла Лизка и уселась на край кровати. Я закрыл глаза, мне нужно было, чтобы она ушла, но она решила остаться. Сидела, молчала, дышала и скрипела кроватью. От нее несло молочными ирисками, киселями и детскими кашами. Мне хотелось заорать, чтобы валила отсюда, но вместо этого я подвинулся. Она улеглась рядом и затихла, забодав меня запахом молочных ирисок.
– Что вы делали с Сашкой? – спросил я. С чего спросил? Откуда я знаю!
– Ничего, – не сразу ответила она.
– Вообще? – я неожиданно разозлился. – Сидели, стояли, молчали? Все?
– Все, – как эхо повторила она. То ли неуверенно, то ли испуганно.
Я обозлился еще больше. Сам не понял почему.
– Значит, врал! – захохотал я.
– Что врал? – Ее голос дрогнул, мне захотелось дать ей по физии. Я был зол до черта!
Я перевернулся прямо на нее и навис крышей, зажав руками с обеих сторон. Выражение моего лица было под стать настроению. Собака Баскервилей отдыхает. Она вдавилась в матрас, и ее глазенапы стали как блюдца. Испугалась! Я почувствовал злобное удовлетворение.
– Ну-ка, покажи мне! – я засмеялся. – Как вы сидели, стояли, молчали? Опыт буду перенимать.
– Отстань! – пискнула она.
– Скажешь, отстану!
Она тряслась и молчала. Меня ее страх зажигал все больше и больше. Я был весь в жару от ее страха! Со всеми вытекающими подробностями!
– Вот так? – Я врубил свои губы в ее, и мой язык напоролся на стиснутые зубы. – Рот открой, бананово-лимонный Сингапур!
Она заплакала совсем тихонько, и я упал прямо на нее. Ни злости, ни жара, ни сил. Они испарились мгновенно. На щеке у меня было мокро от ее слез, а на душе мерзко, мерзее не бывает. Я отвалился как клещ и замолк. Я – дерьмо!!!
Она сидела на краю кровати, я на нее не смотрел. А она терла кулаками глаза, и мазала и мазала по лицу свои слезы. Моя щека замерзла, я вытер с нее чужие слезы. Мне было мерзопакостно, и я не знал, что делать. Вообще не представлял. Лучше бы она ушла! Че сидит? Звали?!
– Вали, – сказал я. – Это моя кровать.
Она встала и пошла. Ни разу не оглянулась. Я понял, она больше сюда не придет. Внутри меня варилась какая-то дрянь. Стыд, злость, жалость и почему-то тоска. Лизка ушла вместе с облаком детских ирисок, а я остался со своей тоской, так и не уяснив, что за важное я сегодня потерял. Мне нужен был ответ, и я пошел смотреть в телескоп. В черном небе стояли стоймя миллиарды звезд. Ни туда, ни сюда. Я навел телескоп на Луну. Она стала желтой, как желтушный больной, и выкатила свою толстую морду блином. А дороги на ней никакой не было. Я лазил по желтушной Луне целый час и не нашел ее. Кратеры, горы, моря, поляны, вулканы нашел, а дорогу – нет. Ну и ладно! Не очень хотелось. Я замерз и потащился домой, а моя тоска потащилась за мной. Из щели Лизкиного окна лился свет. Я заглянул просто так. Она лежала на своей кровати, даже не раздевшись. Круглый затылок и жалкий хохолок на белой подушке. Я сглотнул, и у меня защипало в глазах. Надо идти, а я стою и смотрю на ее дурацкий хохолок. Вдруг она пошевелилась и поднесла кулаки к глазам. Она терла и мазала по лицу свои слезы, а я смотрел, как трясется от плача ее спина. И тут я понял, что потерял. Четыре галактических глаза. Все!
Ночью я не мог заснуть, лежал и тупо смотрел в потолок. Мои щеки мерзли от слез, или я забыл закрыть окно. А рано утром полез на мою улицу проветрить башку. У моего телескопа стояла Лизка и пялилась вниз. Я только увидел ее, чуть с подоконника не свалился от страха. Чего испугался? Позорище! Я подумал, подумал и вразвалку направился к ней. Что я теряю, в конце концов? Если даст в морду, я успею отклониться. Хуже, если будет молчать…
Я подошел, шурша гравием, она сжалась и втянула голову в плечи. Мне стало противно. Я встал по другую сторону телескопа и бросил мельком взгляд на нее. На ее толстых щеках лежали длиннющие ресницы. Они подрагивали как от ветра.
– Стоим? – дурашливо спросил я.
Она не ответила. Глазела во двор, где уже орал детсад из нашего дома.
– Ты это… – вдруг заблеял я. – Того. В общем, я…
– Что в общем? – спросила она своим тоненьким голосочком.
– Не хотел ничего такого! – рубанул я. – Так вышло.
– Что вы обо мне говорили с Сашкой? – она круто развернулась, ее черные глаза блеснули красным, как глаза злющей сиамской кошки. – Гадости говорили? Да?!
– Да ни о чем мы не говорили!
– Мне он вообще не нужен! – крикнула она. – Плевала я на него! Ясно? И целовалась от скуки!
– А что ходили? – спросил я, и мне снова стало противно. Будто я чего-то боюсь.
– Просто так, – тихо сказала она.
Я вспомнил Сарычеву, Нинку, других девчонок – и промолчал. Мы смотрели на горы, мне было не по себе, ей, по-моему, тоже. Хотя мне всегда есть что сказать. Но не в этом году. Я тупею и тупею с каждым днем. Блин! Что за фигня? Но одно я знал точно: мне бы очень не понравилось, если бы моя девчонка целовалась с другим парнем даже от скуки. Лизка не была моей девчонкой, она была салагой, но я на нее злился и в то же время не хотел, чтобы она уходила. Короче, в моей голове была сплошная манная каша и молочный кисель.
– Лиза, прости, – тупо сказал я, и услышал со стороны свой хнычущий голос.
Я бы на себя разозлился, но не успел. Она улыбнулась до самых ушей. И я только сейчас заметил на ее носу и щеках веснушки. Оказывается, Лизка не зря торчала на нашем балконе. Она загорала под дырками высоких кучевых облаков! Мне стало легко, и я про себя рассмеялся.
– Ладно, – ответила она, и ее огромные глазенапы сверкнули красным.
Вообще-то я нормально отношусь к кошкам. И к сиамским тоже. Отношение к кошкам – это сигнал для женщин. Так говорит бабка. По ее теории, кошки – женщины, а любовь к ним – признак мужественности и женолюбия. Во мне полно практической мужественности и теоретического женолюбия. Жду не дождусь, когда теория станет привычной практикой. Главное, чтобы точили когти о мебель, а не об меня. И путались под ногами, когда мне самому приспичит, а не им.