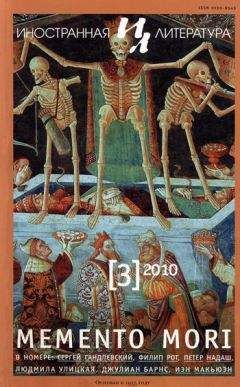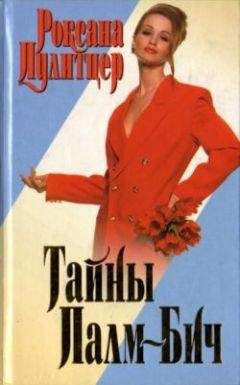Наверное, именно боязнь опередить отца настолько, что ему меня не догнать, заставила меня в первые годы в колледже ощущать себя если не его двойником, то медиумом, воображать, что я учусь в колледже вместо него и образование получаю не только я, но и он, и от невежества избавляю и его. А выходило как раз наоборот: каждая книга, которую я прорабатывал и на полях которой делал пометы, каждый курс лекций, который прослушивал, доклад, который написал, увеличивали умственный водораздел, и он разводил нас все дальше с тех пор, как я скороспело — двенадцати лет от роду — поступил в среднюю школу, в том примерно возрасте, когда он навсегда бросил учиться, чтобы помогать родителям-иммигрантам содержать их выводок. Все так, и тем не менее мое здравомыслящее «я» не могло освободиться от чувства слиянности с ним, которое овладевало мной в классной и за письменным столом в общежитии, — пылкой, хоть и бредовой уверенности, что он каким-то образом переселился в меня и заодно со своим я оттачиваю и его ум.
Добравшись наконец до отцовской палаты, я увидел, что на тумбочке нет его вещей, открыв шкаф, не увидел там ни его одежды, ни халата, ни чемоданчика. Больше всего меня напугал вид голого матраса, с которого убрали спальные принадлежности. Я кинулся назад в холл к сестринскому посту, в голове тем временем крутилась мысль: Все копчено, все кончено, худшее его миновало, но сестра сказала — и у меня отлегло от сердца, — что несколько часов назад его увезли в операционную. Я опоздал, потому что слишком долго консультировал собственного пациента — таксиста-отцеубийцу. Отец не умер. Но что, если иглу воткнут не туда, что, если он ослепнет, что, если у него парализует и другую половину лица…
Было уже без чего-то пять, когда его перевели из реанимации в четырехместную палату, где его подключили к монитору и где круглосуточно дежурила сестра. Я просидел у его постели, пока посетителям не пришло время уходить, с изумлением следя, как его пульс обретает нормальный ритм — шестьдесят ударов в минуту. У других пациентов, приходивших в себя после операции, скакало давление, а у него держалось давление сто пятьдесят пять на семьдесят восемь. Я, конечно же, не мог расшифровать электрокардиограмму, четко прочерчивавшуюся на экране, но, по-моему, ни экстрасистол, ни аритмии она не показывала. Он по-прежнему оставался чудом из чудес, а раз так, ему не избежать ничего из того, что предначертано.
Чтобы утишить боль во рту, ему велели сосать лед. Я подавал ему лед кусочек за кусочком и снова наполнял мисочку. У него так болел рот, что он практически не мог говорить. А когда наконец-то собрался с силами, высказался коротко и ободряюще.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я, с тех пор, как его привезли из реанимации, прошел уже час.
Он ответил — еле слышно, угрюмо, без обиняков:
— Лучше бы мне умереть.
Больше жалоб я от него не услышал.
Кровать через проход занимал хрупкий — в чем душа держится — восточного вида старик, из горла у него торчал зонд. Ему сделали операцию на кишечнике, его то и дело позывало на рвоту, и он пытался откашляться. Его дочь, миловидная миниатюрная женщина лет сорока, очень толково и самоотверженно ухаживала за отцом, не говоря ни слова всячески пеклась о нем, но, судя по всему, облегчить его страданий не могла. Лицо его оставалось бесстрастным, но нам было слышно, как через каждые несколько минут он пытается вырвать зонд: ему казалось, он задыхается.
Приехав на следующее утро в больницу, я спросил отца:
— Как ты спал?
— Плохо. Этот китаец всех будил.
Старик — он теперь сидел на стуле у кровати — пытался вырвать зонд, дочь — она уже была на посту — все так же молча хлопотала около него.
— Как рот? — спросил я отца.
Он покачал головой, давая понять, что рот страшно болит.
Сестра сказала, что врач не хочет выписывать отца сегодня, так как он еще не отошел от биопсии. К тому же он еще не мочился и, пока не помочится, отпустить его домой нельзя. Отец сказал, что оправиться ему тоже не удалось, и то и дело вскакивал и уходил в уборную — тужиться. Всякий раз я отводил его туда, а сам оставался за дверью, ждал: вдруг ему понадобится помощь. Время от времени, обихаживая своих отцов, мы с восточной женщиной переглядывались и улыбались.
Отца проведала Лил, навестил Сет с женой Рут; Сэнди и Хелен позвонили ему из Чикаго; Клэр — она вернулась из Лондона— позвонила из Коннектикута; Джонатан — откуда-то, где он колесил по делам службы; позже, когда я помогал отцу справиться, что ему плохо удавалось, с водянистым, неаппетитным обедом, появился доктор Бенджамин, разодетый в пух и прах, излучающий самоуверенность — не врач, а мечта пациента. Его сопровождал наутюженный администратор в галстуке и белой рубашке, выполнявший его указания с военной четкостью. По сравнению с ним отец, скрючившийся над подносом с обедом, в загвазданном всевозможными пятнами, кое-как завязанном на спине больничном халате, беззубый, с безвозвратно изуродованной половиной лица походил на старушку, хорошо знакомую мне старушку — на свою мать Берту Занстехер Рот; именно такой я запомнил ее в больнице незадолго до смерти. Отлично помню, как, вернувшись домой из колледжа, я стоял подле ее кровати, он кормил ее, а она бормотала что-то на идише.
Бенджамин сообщил нам результат биопсии. Опухоль исключительно редкого типа, из какого-то хрящеподобного вещества, «несколько напоминающего ноготь», сказал он отцу. Опухоль доброкачественная, но облучение на нее не действует. И предложил удалить ее хирургическим путем, в два этапа, каждый из которых займет семь-восемь часов. На первом этапе он извлечет часть опухоли через нёбо, а спустя несколько месяцев — остальную часть через затылок.
Видимо, Бенджамин не догадался отвести меня в сторону и сообщить о результатах биопсии сначала мне: у старика и без того еле-еле душа в теле, а он еще его так огорошил. Когда доктор закончил излагать свои умозаключения, отец долго не отрывал глаз от подноса, на котором стоял очередной обед: холодный бульон, йогурт, шоколадный напиток, желе, фруктовое мороженое. По его потерянному, рассредоточенному взгляду нельзя было догадаться, о чем он думает и думает о чем-либо вообще. Я же думал о ногтеобразном веществе, уже десять лет заполонявшем все пустоты его мозга, веществе, столь же жестком и твердом, как он сам, веществе, прорвавшем носовую перегородку и наподобие клыка пробившемся — упорно, беспощадно, точь-в-точь так же, как пробивался он сам, — во все ткани его лица.
Но вот наконец отец вспомнил о Бенджамине, поднял глаза и сказал:
— Что ж, доктор, по ту сторону меня дожидается немало народу, — склонился еще ниже над блюдцем, опустил ложку в желе и снова попытался что-то съесть.
Я вышел в коридор вслед за доктором и его помощником.
— Мне кажется, две такие операции ему не пережить, — сказал я.
— Ваш отец — сильный человек, — возразил доктор.
— Сильный-то он сильный, но ему восемьдесят шесть. Сколько можно.
— Опухоль в периоде риска. В течение года могут начаться серьезные осложнения.
— Какого характера?
— По всей вероятности, ему станет трудно глотать, — сказал Бенджамин, и воображение, естественно, нарисовало страшную картину, но не менее страшно было представить, каково ему отходить не от одной, а от двух восьмичасовых черепно-мозговых операций.
Доктор сказал:
— Может случиться все что угодно.
— Нам надо обдумать все как следует, — сказал я.
Мы пожали друг другу руки, но, направляясь с помощником к двери, Бенджамин обернулся и, чтобы мы не расслаблялись, напомнил:
— Мистер Рот, когда что-то случится, помочь будет невозможно.
В ответ на что я сказал:
— А может быть, уже и сейчас невозможно?
На следующее утро отцу так и не удалось помочиться, и, так как он не больше, чем любой из нас, хотел, чтобы ему поставили катетер, я посоветовал ему пойти в уборную, открыть кран и сидеть там, пока не добьется результата. Он ходил в уборную три раза и в последний раз, пробыв там минут двадцать, вышел и сказал, что все сработало. Еще бы, у него бы да не сработало.
Я помог ему снять больничную одежду, переодеться и пошел позвонить брату — сообщить, что выписываю отца из больницы и еду с ним в Коннектикут, куда мы с Клэр перебрались на лето.
— Что тебе сказать — теперь мы убедились: ничего поделать нельзя, — сказал я брату. — Об операции в два этапа не может быть и речи. Ты бы посмотрел, на что он похож сейчас, а ведь у него всего лишь взяли биопсию.
Пока я упаковывал в сумку отцовские бритвенные принадлежности, старик на кровати все так же пытался вырвать зонд, его дочь все так же молча сновала, ходила за отцом. Я цодошел к ней — попрощаться.
— Вашему отцу лучше? — спросила она; по-английски она говорила с сильным акцентом, понимал я ее с трудом.