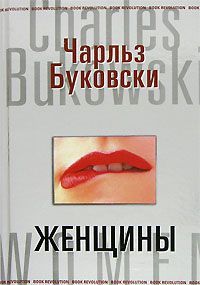Лидия, подумал я.
Оставила она мне один телевизор, поскольку знала, что я на него даже не смотрю.
Я вышел на улицу: машина Лидии стояла, но самой ее внутри не было.
– Лидия, – позвал я. – Эй, детка!
Я прошел взад и вперед по улице и тут увидел ее ноги, обе – они высовывались из-за деревца у стены многоквартирного дома. Я подошел к деревцу и сказал:
– Послушай, да что, бля, с тобой такое? Лидия просто стояла. В руках два полиэтиленовых пакета с моими книгами и папка с картинами.
– Слушай, верни мне книги и картины. Они мои.
Лидия выскочила из-за дерева – с воплем. Схватила картины и начала их рвать. Она швыряла клочки в воздух и топтала, когда те падали на землю. На ногах у нее были ковбойские сапоги.
Потом она стала вытаскивать из пакетов мои книги и расшвыривать их – на улицу, на лужайку, повсюду.
– Вот тебе картины! Вот тебе книги! И НЕ РАССКАЗЫВАЙ МНЕ О СВОИХ БАБАХ! НЕ ГОВОРИ МНЕ О СВОИХ БАБАХ!
Затем Лидия побежала ко мне во двор с книгой в руке, моей последней – «Избранное Генри Чинаски». Она визжала:
– Так ты свои книги хочешь назад? Книги свои хочешь? Вот твои проклятые книги! И НЕ РАССКАЗЫВАЙ МНЕ О СВОИХ БАБАХ!
Она начала бить стекла в моей двери. Она взяла «Избранное Генри Чинаски» и била им одно стекло за другим, вопя при этом:
– Ты хочешь назад свои книги? Вот твои проклятые книги! И НЕ РАССКАЗЫВАЙ МНЕ О СВОИХ БАБАХ! Я НЕ ХОЧУ СЛЫШАТЬ О ТВОИХ БАБАХ!
Я стоял, а она орала и била стекла.
Где же полиция, думал я. Ну где?
Затем Лидия рванула по дорожке, нырнула влево у мусорного бака и побежала к многоквартирному дому. За кустиком валялись моя машинка, мое радио и мой тостер.
Лидия схватила машинку и выскочила с ней на середину улицы. Обыкновенная тяжелая старомодная машинка. Лидия подняла ее высоко над головой обеими руками и грохнула о мостовую. Валик и еще какие-то детали отлетели. Лидия опять воздела машинку над головой и завопила:
– НЕ ГОВОРИ МНЕ О СВОИХ БАБАХ! – и опять шваркнула о мостовую.
После чего вскочила в машину и уехала.
Через пятнадцать секунд подкатил полицейский крейсер.
– Такой оранжевый «фольксваген». «Дрянь» называется, похож на танк. Я не помню номера, но буквы там СМУ, как в СМУТНЫЙ, понятно?
– Адрес?
Я дал им ее адрес…
Разумеется, ее привезли обратно. Я слышал, как она выла на заднем сиденье, когда они подъезжали.
– НЕ ПОДХОДИТЕ! – сказал один полицейский, выскакивая из машины. Он зашел за мной внутрь. И сразу наступил на битое стекло. Еще зачем-то посветил фонариком в потолок, на карнизы.
– Вы хотите подавать в суд? – спросил он.
– Нет. У нее дети. Я не хочу, чтоб она потеряла детей. Ее бывший муж и так пытается их у нее отсудить. Но прошу вас, скажите ей, что нельзя же врываться к людям в дома и творить вот такое.
– Ладно, – ответил он, – тогда подпишите.
Он написал от руки в разлинованном блокнотике. Мол, я, Генри Чинаски, не имею претензий к некоей Лидии Вэнс.
Я расписался, и он ушел.
Я запер то, что оставалось от входной двери, лег в постель и попытался уснуть.
Примерно через час раздался звонок. Лидия. Она уже вернулась домой.
– ТЫ, СУКИН СЫН, ЕЩЕ ХОТЬ РАЗ ЗАГОВОРИШЬ О СВОИХ БАБАХ, И Я ОПЯТЬ СДЕЛАЮ ТО ЖЕ САМОЕ!
И она бросила трубку.
Через пару дней вечером я приехал к Тэмми на «Деревенский двор». Постучался. Свет не горел. Судя по всему, дома никого нет. Я заглянул в почтовый ящик. Внутри лежали письма. Я начирикал записку: «Тэмми, я пытался тебе позвонить. Приезжал, но тебя не было. У тебя все в порядке? Позвони… Хэнк».
Я вернулся наутро в 11. Машины перед домом не было. Моя записка по-прежнему торчала в дверях. Я все равно позвонил. Письма так и лежали в ящике. Я оставил в нем новую записку: «Тэмми, куда ты, к дьяволу, запропастилась? Сообщи о себе… Хэнк».
Я объехал всю округу в поисках битого красного «камаро».
Вернулся я в тот же вечер. Шел дождь. Мои записки вымокли. Почты в ящике скопилось еще больше. Я оставил Тэмми книгу своих стихов, с надписью. Потом вернулся к «фольксвагену». На зеркальце у меня болтался мальтийский крестик. Я сдернул его, вернулся к дому и обмотал им дверную ручку.
Я не знал, где живут ее друзья, где живет ее мать, где живут ее любовники.
Я вернулся к себе и написал несколько стихов о любви.
Я сидел с анархистом из Беверли-Хиллз Беном Сульвнагом, писавшим мою биографию, когда услышал ее шаги по дорожке. Я узнал этот звук – они всегда были быстры, неистовы, сексуальны, эти крохотные шаги. Я жил в глубине двора. Дверь была открыта. Вбежала Тэмми.
Мы сразу кинулись друг другу в объятья, поцеловались.
Бен Сульвнаг сказал до свиданья и испарился.
– Эти сучьи рыла конфисковали мои вещи, все мои вещи! Я не могла заплатить за квартиру! Сукоебина грязная!
– Я пойду туда и вломлю ему промеж рогов. Мы вернем твои вещи.
– Нет, у него ружья! Много всяких ружей!
– А-а.
– Дочь я отвезла к маме.
– Как насчет чего-нибудь выпить?
– Конечно.
– Чего?
– Очень сухого шампанского.
– Ладно.
Дверь все еще была отворена, и полуденный свет солнца лился сквозь ее волосы – такие длинные и рыжие, что просто горели.
– Можно, я залезу в ванну? – спросила она.
– Само собой.
– Подожди меня, – сказала она.
Утром мы поговорили о ее финансах. Ей должны были прийти деньги: пособие на ребенка плюс пара чеков по безработице, – и на подходе были еще.
– Тут в доме есть свободная квартира сзади, прямо надо мной.
– Сколько?
– Сто пять долларов и половина услуг уже оплачена.
– О черт, у меня хватит. А детей они берут? Ребенка?
– Возьмут. Я договорюсь. Я знаю хозяев.
К воскресенью она уже переехала. Теперь она жила прямо надо мной. Она могла заглядывать ко мне в кухню, где я печатал на обеденном столе в уголке.
В тот вторник вечером мы сидели у меня и пили: Тэмми, я и ее брат Джей. Зазвонил телефон. Бобби.
– Тут у меня сидят Луи с женой, и ей хотелось бы с тобой познакомиться.
Луи – это тот, который только что выехал из квартиры Тэмми. Он играл в джаз-группах по всяким маленьким клубам, и ему не сильно везло. Но сам по себе он был занимательным типом.
– А может, ну его на фиг, Бобби?
– Луи обидится, если ты не придешь.
– Ладно, Бобби, но я приведу парочку друзей.
Мы зашли, и все были представлены друг другу. Затем Бобби вынес своего пива, купленного за полцены. Стерео вопило музыку, громко.
– Я прочел твой рассказ в «Рыцаре», – сказал Луи. – Странный такой. Ты никогда не ебал мертвых женщин, правда?
– Нет, просто казалось, что некоторые мертвы.
– Я тебя понимаю.
– Терпеть не могу такой музон, – сказала Тэмми.
– Как музыка продвигается, Луи?
– Ну, у меня сейчас новая группа. Если протусуемся вместе подольше, может, что и получится.
– Я, кажется, возьму у кого-нибудь за щеку, – сказала Тэмми, – я, наверное, отсосу у Бобби, я, наверное, отсосу у Луи, я, наверное, у брата собственного отсосу!
На Тэмми был длинный наряд, отчасти похожий на вечернее платье, а отчасти – на ночную сорочку.
Вэлери, жена Бобби, была на работе. Два вечера в неделю она работала официанткой в баре. Луи, его жена Пола и Бобби квасили уже некоторое время.
Луи глотнул халявного пива, вдруг его затошнило, он подскочил и ринулся к дверям. Тэмми выскочила следом. Немного погодя они вошли с улицы вместе.
– Пошли отсюдова к чертовой матери, – сказал Луи Поле.
– Хорошо, – ответила та. Они встали и вместе ушли.
Бобби извлек еще пива. Мы с Джеем о чем-то разговаривали. Потом я услышал Бобби:
– Я не виноват! Эй, дядя, это не я!
Я посмотрел. Голова Тэмми лежала у Бобби на коленях, рукой она держала его за яйца, затем подняла голову повыше и схватила его за член, и держала его за член, и все это время глаза ее смотрели прямо на меня.
Я еще глотнул пива, поставил стакан, встал и вышел.
Я увидел Бобби на улице, когда вышел купить газету.
– Звонил Луи, – сказал он, – и рассказал мне, что с ним случилось.
– Ну?
– Он выбежал проблеваться, а Тэмми схватила его за хуй, пока он блевал, и сказала: «Пойдем наверх, я у тебя в рот возьму. А потом мы тебе хер в пасхальное яйцо засунем». Он ответил «нет», а она сказала: «Что с тобой такое? Ты что – не мужик? Пойло в себе удержать не можешь? Пошли наверх, я тебе отсосу!»
Я сходил на угол и купил газету. Вернулся, проверил результаты скачек, прочел о поножовщинах, изнасилованиях, убийствах.
В дверь постучали. Я открыл. Тэмми. Она зашла и села.
– Послушай, – сказала она, – прости, если я тебя обидела тем, как себя вела, но больше ни за что просить прощения не буду. Остальное – это уже моя натура.