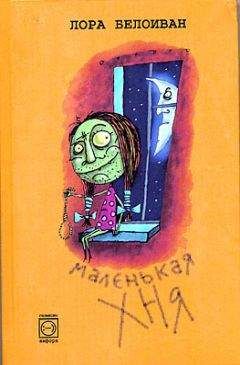— А чё, раздеваться надо, что ли? — удивилась она и сняла шубу. На нее оглядывались; впрочем, без особого любопытства.
— Ну расскажи, Галь, как она, вот прямо так вот пришла и?.. — Галкин сексуальный опыт не давал нам покоя.
— Ну прям. Сперва вина попили, — еще больше подогревала наш интерес будущая крестная.
— Крещаемые — налево! — Священник был молод и клочкаст, на его лице, там, где не было рваной поросли, сидели ярко-рыжие веснушки. Он был похож на школьного хулигана, которого уговорили принять участие в конкурсе на лучший маскарадный костюм.
— Я не хочу у него креститься, — сказала Кавардакова.
— Поздно, — почему-то сказала я. Мне думалось: раз вошел в церковь, обратной дороги нет.
Впрочем, лично меня неформальный имидж батюшки не смущал, потому что других священников я никогда прежде и не видела; я никаких священников прежде не видела.
Нас, «крещаемых», было человек сто.
— Давайте-ка живенько, — поторопил свое стадо пастырь, — дел куча, владыка на сессию не отпускает.
Он выстроил нас в «ручеек», прочитал коротенькую молитву и спросил, согласны ли мы отказаться от дьявола. Мы были согласны.
Сама процедура занимала несколько секунд: чувствовалось, что, несмотря на молодость лет, у батюшки были хорошо набитые руки. Одной рукой он брал очередного крещаемого за шею, а второй, в которой были ножницы, отхватывал от новообращенного клок волос. Кавардакова была впереди меня. Я увидела, как она отходила от священника, унося в обеих ладонях половину своего скальпа, и обреченно подставила свою голову под ножницы, но почти не почувствовала их касания. «Во имя Отца, и Сына, и Святага Духа», — тихо сказал владелец хулиганских веснушек и бережно положил в мою ладонь тонкую прядь. Остального я не помню, так как в момент, когда он перекрестил меня, ко мне все вернулось. Такое ощущение бывает иногда в детстве, когда просыпаешься и вдруг плачешь от невыносимого счастья.
Еще дня два или даже больше ходила как ведро, стараясь не расплескаться, и ни с кем не разговаривала.
Я кружила над Никольским храмом и пыталась вспомнить, как звали того священника. Как раз перед тем, как подошла моя очередь лишиться части волос, его кто-то окликнул: то ли отец Василий, то ли отец Власий — и он ответил: «Подожди, не отвлекай».
Иногда я слышу, как на Русском бьют в монастырские колокола. По воде вообще звук хорошо идет.
Уже даже я стала закрывать на ночь окно. Уже давно не бились в него ночные бабы, а я все чаще вылетала на охоту.
Да, это было так похоже на осень: я практически перестала питаться дома. Дома я только пила кофе. А желание чего-нибудь съесть поднимало голову, когда я оказываюсь на воле. Воля могла быть закамуфлирована под какие-нибудь важные дела, погнавшие меня вон из дому. Но я-то знала, что на самом деле я вылетаю пострелять.
Осенью я метко стреляю.
Осенью я никогда не промажу мимо корейской передвижной печки-лавочки на Admiralfuck-ing-street, где делают чебуреки по 15 рублей штука: не надо ничего мне говорить, это моя добыча.
Я влет подстреливаю жареную на гриле колбаску в паре с гречневой лепешкой — это если чебуречная лавка передвинулась в неведомое мне место. Потом я ее все равно отыщу: у печки-лавочки характерный запах, а настоящий охотник — это прежде всего нюх и интуиция. Я отыщу корейцев, уплачу 15 рублей за лицензию на отстрел чебурека, убью его и съем тут же, по-делясь разве что с собакой пегой масти: собака возле передвижки всегда одна и та же, она передвигается вместе с корейцами, хотя, может, это они двигают свою лавку вслед за собакой — всегда одной и той же.
После чебурека я убиваю банку пепси-колы. Жестяную шкурку от пепси я обычно притаскиваю домой, так как никогда не встречаю по дороге мусорку, а выбрасывать останки дичи куда ни попадя не могу. В эту шкурку я, как правило, упаковываю и масляную бумажку, в которую бывает одет чебурек: я их ем голыми.
За время важных дел к ногам моего желудка замертво падали несколько наименований жидких и твердых объектов охоты, так что домой я обычно возвращалась с полным пузом добычи.
Я возвращаюсь домой и пью кофе.
У меня вообще-то минимум физических потребностей: кофе, сигареты и оплаченный интернет. Бисмарк, что ли, сказал в свое время о России, что она-де опасна минимальностью своих потребностей. Дескать, нет сахару — да и хер с ним, репа тоже сладкая, а репы много. Несмотря на то, что иногда мне было нечего есть, кофе и сигареты с интернетом у меня чудесным образом не переводились ни разу.
При этом я даже не удешевила сорта первых двух: по-прежнему травлюсь дорого; но это не от хорошей жизни, а от житейской опытности. Я очень хорошо знаю одну вещь: перелезешь на дешевку, назад вернуться почти невозможно. Бог (или — на любителя — Силы Небесные, Высшая Справедливость) всегда выписывает по потребностям. А мои потребности минимальны: хороший кофе, хорошие сигареты и оплаченный интернет. Я так часто говорила об этих трех составляющих моего внешнего комфорта, что Бог (или — на любителя — Силы Небесные, Высшая Справедливость) стали добросовестно заботиться о наличии у меня оных трех, сильно ограничив во всем остальном. Если б я была проповедником, сказала бы: «Следите за базаром, братья и сестры, следите за базаром». Я, кстати, тоже начала. И даже решила слетать поставить за себя свечку.
В церкви оказалось, как всегда, хорошо. Хор пел красивыми голосами про что-то очень прекрасное. Я даже знала, про что. В середине службы подумала: а может, зря я собираюсь сваливать. Но, отогнав суетную мысль прочь, стала думать о вечном. О том, что в городе В. у меня вечно нет денег. О том, что я ненавижу город В. О том, что в городе В. у меня по части денег, покоя и воли никуда не годная карма. Потом я подумала, что думаю неподходящими терминами, и повелела мыслям изыдить в свиное стадо.
Лишившись мыслей, мозги присмирели. И стало совсем спокойно и торжественно, как вдруг спина почуяла пистолетное дуло. Я обернулась. Сзади стояла бабкаёжка, смотрела на меня с конфессиональной ненавистью и готовилась расстрелять из пальца.
— Рюкзак сними, ээ, — сказала она, взведя курок.
Я подумала, что, если Богу мой рюкзак не мешает, то бабкаёжка как-нибудь переживет. Рюкзак у меня был пустой, я в него собиралась купить хлеб насущный на обратном пути. Мой пустой тряпошный рюкзак прочертил между мной и бабкаёжкой водораздел. Границу между православием и православием. Не мир принес я вам, но рюкзак. Не стреляй в меня, милая Яга, не стреляй, и вообще, зырь — у меня вот тут вот, вот он — тоже крестик есть.
Поздно.
Пиф-паф.
Ойёёй.
Потом я опять видела, как пилят деревья. Почему-то их пилили еще активнее, чем прежде: вероятнее всего, город В. готовился к зиме, и ему, как обычно, катастрофически не хватало дров и тепла.
Мне тоже всегда не хватало дров. Почти все, кто мне необходим, живут за девять тыщ километров отсюда.
Остальные — за семь.
Некоторые — за двенадцать. «Ты только нееее плачь, бедное животное, неее плачь…»
Не «Muse», нет.
В Мск в тот раз было так замечательно, что я немедленно рванула обратно в город В.: забрать Банцена и продать квартиру с видом на Босфор. Но замешкалась, глядя в окно, а потом нечаянно научилась летать — в любую погоду, хоть под дождем, хоть под снегом.
И однажды снег шел всю ночь.
Уже незадолго до отъезда мне приснилось, будто беру большие портновские ножницы с зелеными ручками и сквозной дыркой посреди лезвий (эти ножницы реально существуют в природе и живы до сих пор. Это мамины ножницы. Когда моему младшему братцу было года полтора, он перерезал ими шнур у включенной в розетку настольной лампы, отсюда и дырка в лезвиях), подхожу к зеркалу и аккуратно срезаю себе сначала челку, затем — пряди у висков, после чего собираю остальные волосы в хвост и обстригаю его под самый корень.
И очень нравлюсь себе в зеркале после стрижки.
Оставалось продать квартиру, но это совсем не было сложно: в нашем тихом закутке над самым морем постоянно спрос на недвижимость. Хороший район. Замечательный. Лучше всех. Я взяла ножницы, подошла к зеркалу и обстригла себе волосы. Сперва — челку, потом пряди с висков, а потом собрала остатки волос в хвост и обкорнала его под корень. Так, чтобы сон уже сбылся.
Банцен, ты хочешь в Москву? Мы полетим с тобой в багажном отделении. Не одному же тебе там сидеть.
Он родился мне в ладони. Остальные семеро тоже родились мне в ладони, но Банцену я слишком коротко обрезала пуповину и уже этим самым обрекла нас с ним на совместную жизнь: продавать щенка с потенциальной пупочной грыжей — очень уж много объяснений с будущим владельцем. Так и остались — вместе и на всю жизнь.
И я не знаю, зачем все-таки полетела туда. Я давно запретила себе возвращаться в то место: меня там больше нет. Ни я, ни Яхтсмен не пытались выяснять подробности — сказано «поджог», значит, поджог. Тем более почти сразу мы с Яхтсменом и расстались — я отвлеклась и перестала придумывать себе его яхты, а когда обернулась, рядом уже никого не было. И мне совершенно не интересны причины, по которым убивают домики в лесу: в любом случае эти причины неуважительные. Но меня все еще тянет оглянуться. Каждый сам себе Лотова баба.