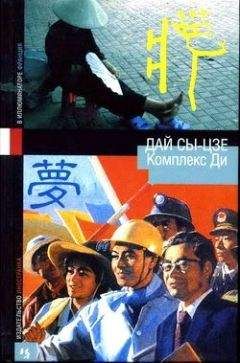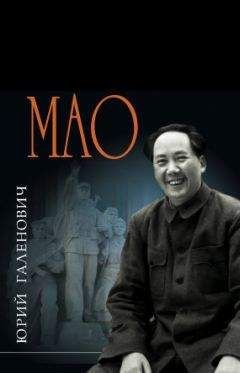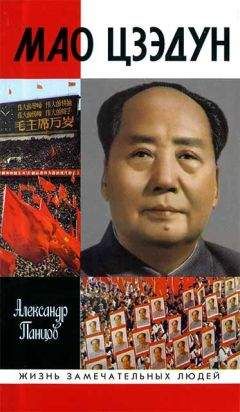Нет ли критики рабочего класса и колхозного крестьянства?
Нет ли критики государственного аппарата?
Нет ли скрытой поддержки диссидентов?
Не перекликается ли критика отдельных недостатков с отдельными утверждениями западных радиостанций, работающих на Советский Союз?
Не преобладают ли на страницах еврейские фамилии?..
— А это еще почему?
— Надеюсь, вы не думаете, что я антисемит?
— М-м-м…
— Напрасно вы мычите, вы отлично знаете, что нет. Ну подумайте сами, что, если в русской московской газете вы встретили бы только, скажем, узбекские фамилии, вам бы не показалось это странным?
— Если бы они талантливо писали…
— Не успокаивайте себя, голубчик, вам бы показалось это странным. Ну, а если вам все время встречаются Бирманы, Офштейны, Штейнбоки, Лившицы и Левенбуки… Разве это не странно?.. Вы не устали?
— Нет, продолжайте…
— Далее. Нет ли намека на разрыв единства партии и народа?
Нет ли намека на расхождения между партийными лозунгами и их осуществлением?
Не увидят ли в ЦК КПСС намеков на возвращение к сталинским временам?
Вот когда любой сотрудник, включая, разумеется, и меня, может ответить на все эти вопросы в требуемом для нас смысле, тогда газета выходит в свет, к радости своих читателей и почитателей.
Мы замолчали. Редактор улыбаясь смотрел мне в глаза.
— Знаете, шеф, — сказал я, — вы умный и интеллигентный человек. Почему вам интереснее жить так, а не иначе? Ведь я хорошо себе представляю, как вы, вернувшись домой после работы, закрываете шторами окна, ложитесь в постель, закрывшись с головой одеялом, и при свете карманного фонарика, чтобы никто не видел, читаете стихи Гумилева.
— Очень образно, мой милый, — сказал редактор, — именно так я и делаю. И вам советую.
Я хотел себе представить, как этот человек стал таким. Как они все стали такими. И я сказал ему:
— Передо мной такая картина, шеф. Вас вызывают к товарищу X в большой дом на Старой площади. Вы не знаете, зачем вас вызывают. Вы волнуетесь. Вы нервничаете. Просто так не вызывают. Что-то, вероятно, случилось. Вы перебираете в памяти все свои проступки за последний месяц. Год. Пять лет. Всю жизнь. Ведь что-то когда-то вы совершили. Или хотели совершить. Или кому-то показалось, что вы хотели совершить. Или кому-то показалось, что вы могли совершить. Точно в назначенное время вы приходите на прием. Военный при входе как-то особенно тщательно проверяет ваши документы. Он несколько раз испытующе переводит взгляд с фотографии на вашем документе на ваше лицо. Глаза у него спокойные и безжалостные. Наконец он говорит: «Пожалуйста!» — и вы проходите в приемную. Там нет посетителей. Вы один. Вы осторожно садитесь на краешек кожаного дивана и ждете. Ждете час. Два. Три. Никого. Дверь, в которую вы вошли, автоматически захлопнулась за вами. Тысяча мыслей раскалывает вам голову. И вдруг молодой вышколенный служащий, появившийся, как из-под земли, вежливо (слишком вежливо, как вам кажется) говорит:
«Следуйте, пожалуйста, за мной».
Вы идете по длинному чистому коридору к огромной двустворчатой двери без вывески.
Молодой человек открывает дверь и кивком приглашает вас войти.
Вы проходите за дверь, которая бесшумно захлопывается за вами, и попадаете в огромную комнату. Она белая. И потолок белый, и пол. Окна затянуты белыми занавесями. В первую минуту вам кажется, что комната абсолютно пуста, но потом вдалеке вы замечаете письменный стол и склонившегося над ним человека. Он что-то пишет. Он не замечает вас. Вы медленно, как бы пересекая поле, идете к столу. На сердце у вас пусто и скучно. Человек поднимает голову, улыбается и поправляет очки в золотой оправе. Он встает, обходит вокруг своего огромного стола (когда вы прошли через всю комнату, вы поняли, что стол огромен) и идет вам навстречу. Он крепко пожимает вашу руку. Вы облегченно вздыхаете, тяжесть, которую вы носили на сердце все эти дни до приема, начинает вас оставлять. Человек берет вас под руку, и вы прогуливаетесь по этой белой комнате, и человек тихо и проникновенно говорит вам:
«Как хорошо, что вы пришли дорогой! Если бы вы знали, как нам нужна ваша помощь. Посмотрите, что творится в мире! Мы окружены врагами. Нам трудно работать. Молодежь отравлена чуждыми влияниями. Крестьяне не работают. Рабочие не хотят повышать производительность труда. И во всем этом виновата наша интеллигенция. Казалось бы, чего ей не хватает? Мы создали для них лучшие в мире условия, а они все равно не с нами… Вы должны нам помочь…»
Вы ходите с ним вдоль белых стен, и человек говорит, говорит, говорит, тихо и уверенно. И вот тут он нажимает маленькую белую кнопку, и бесшумно открывается маленькая железная дверь в стене. И вы видите все, что происходит за этой дверью. А человек все говорит и говорит о доверии, о происках врагов, о будущем, о прошлом и об огромной вашей ответственности. А вы все смотрите и смотрите туда, за потайную дверь в белой стене… И то, что вы видите там, на всю жизнь — на всю жизнь! — остается в вашей памяти!
Потом дверь медленно и бесшумно закрывается, и человек провожает вас до порога, и жмет руку, и говорит, что он уверен в вас, одном из лучших людей, с которыми ему довелось встречаться.
Что же вы увидели там, за маленькой железной дверцей в стене, шеф? Что же вы там увидели?
И редактор, сразу постаревший и уставший, сказал:
— Идите к себе, дорогой. Я что-то неважно себя чувствую сегодня.
Его смерть была неправдоподобна. Он не мог умереть. Умирают люди. Он не мог умереть. И что мы без него? И что Россия без него? Он умрет — погибнет Россия…
Он умер.
— Шифрин, хочешь поехать за границу?
— Виноват, не расслышал…
— Не чуди, серьезно говорю. Есть путевки в Болгарию. Туристские. Дешевые. Для комсомольского актива.
Ах, черт возьми, хочу ли я посмотреть мир?
В детстве мама читала мне стихи:
«На далекой Амазонке
Не бывал я никогда…»
Когда я вырос, я узнал, что это Киплинг.
Потом я узнал еще много других поэтов и писателей. Я присутствовал на острых литературных баталиях: бездарные уничтожали даровитых. Даровитые были мягкотелые интеллигенты — им были противны методы бездарных. Поэтому они всегда терпели поражения. Бездарные были мускулисты и невежественны. Они выступали сомкнутыми рядами. Они приклеивали даровитым ярлыки и «измы» и терзали их. Даровитые молчали. Некоторые из них не выдерживали и начинали писать «под бездарных». Тогда бездарные говорили: «Видите, может ведь, а не хочет! Ведь может, сукин сын, когда захочет…» Я знал многих поэтов и писателей… И разных…
Но Киплинг запомнился мне неизъяснимой тоской стихов, которые в детстве читала мама:
«Увижу ли Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
Увижу ли Бразилию,
До старости моей?»
Потом я придумал для знакомых легенду о своей невесте, живущей в Африке.
— Что ж ты, брат, неженатый до сих пор ходишь? — ежедневно спрашивали меня знакомые. — Нехорошо, ай-ай-ай!
И они делали такое лицо, как будто я был главный развратник в нашем городе. Мне жутко надоел этот вопрос. Не мог же я им объяснить, что у меня просто нет девушки, что я никого не люблю и не могу жениться Бог знает на ком. И я говорил им:
— Понимаете, это очень трагичная история. Моя невеста живет в Африке.
— Как в Африке? — удивлялись знакомые.
— Да, в Африке, — печально говорил я, — она сидит в Африке под пальмой, ест кокосовые орехи и сохнет от любви. При первой возможности куплю билет, съезжу в Африку и привезу ее домой. Мы поселимся с ней в Жмеринке.
— Ну тебя к черту! — плевались знакомые, но те, кому мне удавалось рассказать о невесте под пальмой, больше не приставали ко мне.
В конце концов мне самому начало казаться, что моя судьба живет где-то далеко-далеко, что она, одинокая и печальная, рассказывает своим заморским знакомым о своем женихе, сидящем под развесистой клюквой в холодной, далекой России.
«Ну что ж, Болгария — не Африка, но это уже мир, — подумал я, — поеду в Болгарию». О Болгарии я знал лишь то, что знали остальные граждане нашей страны, а именно: «хороша страна Болгария, а Россия — лучше всех». Посмотрим — решил я, подал документы, прошел все проверки, собрал характеристики и анкеты и выехал с группой активистов в Европу.
Группа у нас была большая — человек двадцать. Во главе нас стоял товарищ Шишков, мрачный и подозрительный юноша, похожий на артиста Файта. Его правой рукой был парень, которого я прозвал «верный помощник Фигура». Это были люди серьезные и бдительные.
— Главное — порядок, — любил говорить наш руководитель. — Главное — не расходиться, всем держаться вместе. Он пересчитывал нас, как цыплят, а «Фигура» поддерживал его с тыла.