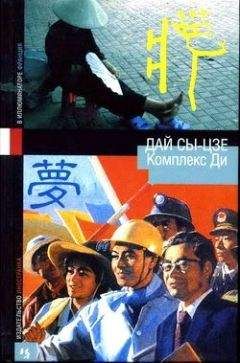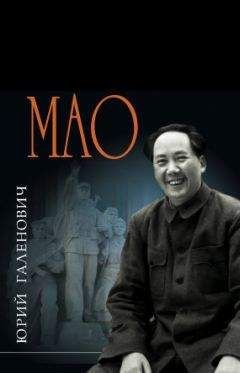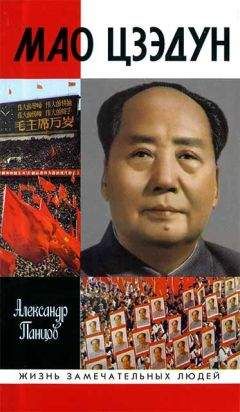— Все тута, — кричал он. — Пошли!
Болгария поразила меня. Это была красивая и добрая страна. В Болгарии любили Россию, любили за свое освобождение от турок, за соседство, за славянство. В Софии мостовые были выложены желтым камнем… Вечером рестораны заполняли горожане. Они приходили семьями, пили вино ели отбивные, широкие, как караваи, и подпевали оркестрам, тихо игравшим в углу. Приходили дети. Они чинно садились за столик и пили лимонад через соломинку.
Первый конфликт с товарищем Шишковым произошел у меня в Картинной галерее.
— Гляди, чего нарисовано, — сказал «Фигура», — это ж надо. Вот у меня брат, Колька, ему пять лет, он и то лучше нарисует.
— Нет, дорогой, — сказал я, — твой Колька так не нарисует.
— Вот эту мазню-то? — удивился «Фигура».
И тут я полез в бутылку. Я как дурак стал объяснять бедному «Фигуре», почему его брат Колька не сможет создать ничего подобного. Я объяснил ему, что надо учиться, что живопись так же трудна иногда для восприятия, как симфоническая музыка, что это не мазня, а…
— Так, — сказал «Фигура», — понятно… Значит, защищаешь их?..
— Кого «их»?
— Знаем кого, — зловеще сказал он и пошел шептаться с товарищем Шишковым.
— Простите, — сказала мне экскурсовод, — но я невольно стала свидетелем вашей интересной дискуссии. — Она улыбнулась. — Если у вас есть время, я бы хотела вам показать еще кое-что.
Она отвела меня в запасник и показала еще несколько картин. И хоть они не показались мне по-настоящему оригинальными, я все же похвалил эти произведения. Ей было очень приятно, я видел по ее лицу, что ей нечасто приходится беседовать об искусстве, а тут единомышленник, да еще из России.
В гостинице товарищ Шишков сказал:
— Не нравятся мне эти разговоры, Шифрин. Умным хочешь быть, да? Мол, я понимаю, а вам, плебеям, не понять, да? Оригинальничаешь, да?
— Да что ты, — сказал я. — Просто у «Фигуры» иммунитет против искусства. Оно ему не грозит.
— Странно это, — сказал товарищ Шишков. — Учти, что я тебе сказал…
Переводчиком в нашей группе была болгарская девушка Павлина. Она училась в университете на русском факультете.
Мы лежали на пляже, на Золотом берегу близ Варны, и наслаждались покоем. Перед этим у нас была поездка в колхоз…
Когда председатель колхоза рассказал нам о своих успехах и познакомил нас с членами сельсовета, я встал (товарищ Шишков поручил мне это) и сказал:
— Нам очень понравилось здесь у вас, нам понравилось, что на полях много молодежи. Нам понравилось, что вы хорошо одеты и что в вашей деревне есть ресторан и музей. Нам понравилась ваша уверенность в завтрашнем дне. Мы рады, что вы хорошо живете. Я поднимаю мысленный тост за дружбу наших народов.
— Почему же мысленный? — воскликнул председатель. Он хлопнул в ладоши, открылись двери, и болгарские девушки в национальных платьях, румяные и кареглазые, внесли в зал вино и закуски. Мы, честно говоря, проголодались и…
Болгарская «сливовица» обладает свойствами напалма: если дохнуть, то на расстоянии двадцати метров сжигается все живое…
Колхозники аккуратно собрали наши живописно разложенные тела и бережно отнесли в автобус.
— До свиданья, до свиданья!..
Один глаз у меня спал, а второй смотрел, как крестьяне, сгрудившись у сельсовета, махали нам вслед платками, и шляпами, пока наш автобус не скрылся за пыльным поворотом…
Поэтому мы лежали на Золотом пляже и наслаждались покоем.
— Скажите, Толя, — говорила мне Павлина, — почему вы, русские, такие подозрительные? Почему вы иногда говорите одно, а думаете совсем другое?
— Вы не правы, Павлиночка, — сказал я, думая о чем-то своем, — мы не такие. Мы — рубахи-парни, у нас что на уме, то и на языке!..
— Неправда, Толя, — сердилась она, — вот, например, товарищ Шишков. С виду он спартанец, а вчера вечером он делал мне странные намеки, а когда я ему сказала, что он, наверное, шутит, он раскричался, что напишет на меня письмо, будто я плохо веду себя с делегацией.
— Сволочь он, Павлиночка, — сказал я, — сволочь и гадина.
— Что такое сволочь, Толя?
— Сволочь — это идиоматическое выражение… В Болгарии нет такого слова, Павлиночка…
За моей спиной раздался шорох, из-за кустов поднялся наш верный помощник «Фигура» и сказал:
— Пропаганду разводишь, контра? Советских людей порочишь? Ладно…
Вечером был трибунал.
В палатке собралась «тройка». За столом сидели товарищ Шишков, «Фигура» и мой товарищ по палатке Лешка Спасский. Товарищ Шишков сказал:
— Перед нами — человек, забывший, что он — представитель нашей великой страны. Еще раньше он защищал в музее абстракционизм. Сегодня он опозорил своих товарищей. Я вношу предложение выслать его досрочно на Родину и сообщить о случившемся в соответствующие организации. Голосуем.
— Это верно, — сказал «Фигура».
— Что же ты молчишь, Лешка? — спросил я своего товарища. — Скажи что-нибудь.
Лешка не смотрел на меня. Он опустил глаза и поднял руку.
И я испугался. Господи, как я испугался! Я задрожал от страха. Что же со мной будет? Это же будет ужас, если они выгонят меня. Не будет мне места на земле! Я представил себе… Мне стало страшно, у меня исказилось лицо. А они смотрели на меня и торжествовали.
— Простите меня, — прошептал я, — я поступил глупо и плохо. Простите меня…
— Нет! — сказал товарищ Шишков.
Я вышел из палатки и побрел в лес. Лучше повеситься! Чтоб у меня язык отсох! Кто меня просил лезть в их дела? Сиди и помалкивай! Вот теперь тебе сломают жизнь! Что же делать-то? Упасть им в ноги, покаяться? А где мое достоинство? К черту, к черту достоинство!.. Я громко застонал.
Из палаток вышли остальные члены нашей группы. Они стояли у своих палаток и смотрели мне вслед. Я был совсем один. Мне было страшно. Мне было страшно до липкого противного пота. Меня бил озноб от страха. В эту ночь я понял, что такое страх. Я понял, как страшно быть одному. Я понял, что я был не прав, а товарищ Шишков — прав. И я никогда не забуду, как омерзительно чувство вины за правые поступки. И я понял тех, кто подписывал себе смертные приговоры в тридцать седьмом, ставя подпись на ложных доносах. Ими руководил страх.
Утром товарищ Шишков сказал:
— Мы обсудили твое поведение на собрании группы и решили, что ты закончишь вместе с нами поездку, а по приезде в Москву мы напишем отчет о твоих поступках куда следует.
— Спасибо, — сказал я, — спасибо…
…Наш поезд прибыл в Унгены. Это станция на границе Румынии с Советским Союзом. Мы приехали домой. Мне было очень тяжело.
— Здравствуй, Родина! — закричал товарищ Шишков. Он схватил «Фигуру», и они помчались в буфет. Потом они пошли в свое купе, скрывая под пиджаками бутылки. Вскоре оттуда раздалось пение, гогот, крики. Потом все утихло.
«Здравствуй, Родина, — грустно подумал я. — Чем ты встретишь меня?»
В это время к поезду прицепили еще один вагон. Это возвращался из-за границы очень важный работник. Он ехал в отдельном охраняемом вагоне. Те, кто его сопровождал, обошли поезд и, так как наш вагон был последним, они заняли крайнее купе. Я смотрел на них. Меня вдруг осенило. Вы не поверите, что было дальше! Я решил отомстить товарищу Шишкову. Я решил сделать так, чтобы он побывал в моей шкуре. Я хотел, чтобы он понял, что такое страх.
Я посвятил в свой план своего приятеля, кинооператора Вадьку Круглова, и приступил к работе. Я открыл дверь их купе и растормошил спящих с похмелья товарища Шишкова и «Фигуру».
— Что, что? — захрипели они, продирая глаза.
— Что же вы, ребята, — зашептал я. — Не могли уж дотерпеть до Москвы?
— А что такое?
— Да понимаете, неприятности… Вы тут выпили…
— Ну?
— Ну и… Нет, вообще-то нехорошо получилось…
— Что получилось?
— Да… Ну, вы выпили, стали кричать… Лозунги всякие… Анекдоты…
— Брось!
— Что, повторить, что вы говорили? И вдруг товарищ Шишков сказал:
— Не надо.
— А тут прицепили вагон с товарищем N… Охрана… Военные… Они услышали, что вы здесь орали, и спросили у меня: «Кто эти люди?» Ну, не мог же я им не сказать. Я назвал ваши фамилии… Они записали… Вот и все…
Они стали зеленые, как трава. На их лицах появилось страдание. Они непонимающе смотрели друг на друга и пытались улыбнуться.
— Неприятное дело, — сказал я. Вошел Вадька Круглов.
— Да, ребята, попали вы, — серьезно сказал он, — жуткая история. Там полковник сидит, злой как черт. Он вам даст! А Толька что мог сделать? Он сказал…
— Врешь! — отчаянно сказал товарищ Шишков… — Врешь, не может быть. Пойду, узнаю…
Я был на волоске.
— А что он тебе скажет? — как можно спокойнее сказал я. — Он же на службе. Он тебе скажет: «Ничего, ничего, все в порядке», а фамилии у него на бумажке.