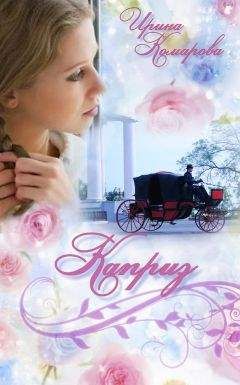Что-то где-то кольнуло, что-то утонуло. Я вела себя на пять с минусом. Он гладил меня по голове, этот мой «минус»; он говорил о какой-то любви, бог мой, Ингвар, какая любовь, ты же директор театра, при чем тут — директор театра, а ни при чем, я не поеду в твою Норвегию, я же не твоя женщина, не моя, а чья, а ничья, своя собственная, сама по себе женщина, Ингвар, так бывает, а «Свадебный день в Тролльхаугене» только у Грига, какая красивая музыка, Инга, ты необыкновенная женщина, да знаю я, знаю, конечно, необыкновенная, спи, а то козленочком станешь, я не понимаю, о чем ты, и не поймешь никогда, никогда, как это весело — никогда…
Утром он как-то странно смотрит на меня; он спрашивает, был ли вчера корректен, я говорю, что вполне, он, видите ли, слишком много выпил и почти ничего не помнит, с ним раньше такого никогда не случалось, ну, конечно, ты же в Россию приехал, тут и не такое случиться может, тут вообще куда ни посмотришь — фантастика, Инга, да что с тобой, у тебя изменилось лицо, в какую сторону, не знаю, ну не перекосило же? как это — «не перекосило», ты будешь мне еще писать, конечно, а как иначе, а я не знаю, как иначе, ничего, прорвемся, что значит «прорвемся», а то и значит, все, одевайся, нас ждут великие дела, великие, почему великие, какая ты сегодня странная, Инга, что значит «странная», что значит «Инга»?
Мы смотрим друг на друга в упор. Мы действительно не понимаем. Усиленно.
Мой красивый роман закончился стихами, соплями и совершенно прямой спиной. Я завела себе через полгода мальчика: он скучен, но добр, он молод, его зовут… его зовут… Я хожу в магазин, на работу, читаю какие-то книги, разговариваю с Вероникой, кормлю маму. У меня, в общем-то, небезынтересная жизнь; я, быть может, и выйду третий раз замуж, если захочу… Но я не хочу, не все еще отболело.
Я знаю, и это пройдет. Только над Кристианзандом будет удивительно низкое небо, чистое-чистое.
Под этим небом до сих пор стоим мы с Ингваром. Так бывает.
Посвящается дивачкам с собачьими глазами
Я знаю, что Венера — дело рук, Ремесленник — и знаю ремесло.
М. Ц.
Я любила его, типа, как миленькая одноногая девочка любит свои костыли. И «не» — одновременно: разве можно любить свои костыли, пусть даже и от кутюр, эксклюзивные, из древа красного, резные, непонятно с чего пахнущие сандалом? Второе «не» ассоциируется с нежным отношением индейцев к бледнолицым; второе «не» въюжит с того самого его похмелья, когда Москву еще не начало рвать домами, в исторически не сложившемся 99-м, а понятие «теракт» екало запредельно-буржуйским. В принципе, и истории-то никакой нет — чего бы особенного? Ну, пели-пили-спали, в стандартной такой последовательности; подумаешь, с кем не бывает? Подруги крутили у виска: «Ты сумасшедшая, что ты в нем нашла, он же раздолбай»; я сама себе крутила у виска и мучалась несколько смен времен года: каждую из «смен» по вредности можно было легко приравнять к нескольким риторически-романтичным «что в имени тебе моем…» Стояла чудовищно-притягательная осень, вызывающая обострение не только у шизофреников; осень, вампирившая меня через запредельную красоту опавшей бурой листвы и усталых от жары деревьев, сравнимых с увядающими красавицами бальзаковского возраста. Not only! Рыже-желтые листья кружились, нагло цепляясь за рвущуюся вперед, на волю, упругую грудь. Она легко умещалась у него в руке; у него были большие классные руки с девственными венами, а в кармане, несмотря на раздолбайство, — чистый носовой платок; он вытирал им кровь, капающую у меня из носа на асфальт. Да что там капающую! Она текла, как из-под крана, и никак не желала останавливаться, то есть вела себя так же вызывающе, как и осень — тогда еще не последняя, но уже изначально жутко неправильная и запущенная. Он тогда слегка ошалел, попросив не умирать от потери густой бордовой жидкости: с тем, чтобы, типа, не создавать неприятностей. После столь привычного цинизма я подумала, что это душа моя истекает кровью в извращенной форме — через ноздри; не помню, что он ответил, мы всегда много пили; не могли смотреть друг на друга трезвыми, что ли? Не знаю. Знаю только, что потом снова — и опять — что-то пили (вероятно, те самые несколько смен времен года), заедая пойло кетчупом.
— Кетчуп — это менструирующий помидор, — сказал кто-то из таких же, как и мы в прошлом веке, раздолбаев.
— Кетчуп — это рудимент уходящей эпохи, — отозвался еще кто-то, предложив выпить за продукт из безвременно раздавленных томатов.
Так мы стали пить за кетчуп, а выпив изрядно, обнаружили себя в ванной. Я была только что после аборта, неделю какую-то, и выведывала о презервативе. Конечно, презерватива не было, но ванная-то — была. И небо было, и земля была, а презерватива… Он сказал: «Что же делать?»
У него были такие обалденные, классные губы — теплые, мягкие, нежные. Над губами — нос, несколько широковатый, но нисколько лицо не портящий. Над носом жили глаза — узковатые, хитрюще-печальные, совсем почти как у Ричарда Гира; ну, вы представляете, какие у Ричарда Гира… Только карие, и — абсолютно идентичные по недоступности. Еще брови были; как же без бровей! Только я их почему-то не помню; вот глупость — все помню, кроме бровей… Странно как, господи, ну почему все так, почему всегда где-нибудь в ванной, у чужих, а в коридоре кто-то ходит, и музыка орет, грохочет… Почему, скажи, мы же должны, ТИПА, возлежать на ложе; и чаши с вином чтобы — да, непременно чтобы — чаши с вином, и — свечи, витые, блестяище, ароматические! — а они почему-то всегда только вагинальные, и никакой романтики; ты знаешь, как я боялась, как мне внутри пусто, как пусто, как пусто, я люблю тебя, люблю, люблю, люблю, я больше никогда не стану ходить на аборты, ты мне веришь, да или нет, скажи?!
— Верю, — отвечает он и гладит, как больную, по голове. — Никогда.
…Через полгода я сделала второй; говорят, мини — не так опасно; какое-то время я испытываю аллергию на детей и делаю все возможное, чтобы не встречать их; едва ли он знает об этом. Едва ли ему нужно это знать. В конце концов, он всего лишь мужчина.
Людей, подобных ему, было крайне мало в тогдашнем моем окружении: периодически я испытывала беспощадный интеллектуальный голод, тычась в четыре замурованных выхода, как подопытная крыса. В один из таких безумных периодов мы и сошлись: вызывающе рыже-желтой осенью, когда разноцветные листья легко скользят по рвущейся вперед, на волю, упругой груди.
Он говорил важное. Не важно, что по-пьяни. Цитировал Веничку, Лао-цзы и не дословно — Льва Николаевича, которого, в отличие от меня, уважал. Цитировал, не напрягая. Цитаты запивал, не морщась. И не только их. Мне хотелось к нему прикоснуться. Прижаться. Ну, как обычно, когда «попадаешь»… только не в десятку. Мне хотелось… да мало ли что! Я слушала голос, пытаясь представить, насколько шелковисты вьющиеся каштановые волосы обладателя баритона. Короче, уже в тот вечер я, типа, любила его. Как дура. Хотя, почему — дура? Ладно…
Он нигде не работал, много читал, в том числе и о растительных галлюциногенах, пил и мог спеть под гитару при случае. А какой уважающий себя раздолбай не споет под гитару при случае? Пел тем самым теплым тембром, от которого мурашки бежали по коже. Я улыбалась, хлопала в ладоши, пила. И чем больше я так вот улыбалась, хлопала в ладоши и пила, тем гнуснее мне и коже моей хотелось этой запущенной любви, тем холоднее становились у меня и у души моей пальцы, а щеки наши покрывались пунцовыми цветами — не от стыда, но алкоголя. И он это все прекрасно видел — ну, что нам с кожей хочется любви; и — пятна видел, будто за ширму подглядывал; а потом «за руку брал — женись», но не женился, потому как разве женится когда-нибудь раздолбай лет…ти с гачком и взглядом Ричарда Гира?
«И правильно делает», — с ужасом думаю. Какая веселенькая семейка получилась, если б… К счастью, за три-четыре осени такое никому не пришло в голову, хотя я и любила его — совершенно бескорыстно и искренне, чего делать, конечно же, нельзя ни в коем случае даже под угрозой вензаболеваний — любить бескорыстно и искренне: элемент стервозности, милые дамки, только элемент стервозности, и ни капли признаний! Ладно…
Так вот. Мы в тот вечер весьма странно поцеловались; причина проста — на какое-то время вырубился свет во всем квартале. Понимаете, да? Во всем квартале. А свечки нет, у меня в сумочке — только вагинальные. Не романтично. Все обрадовались отчего-то, оживились, повизжали слегка… Помню его колючую щетину, узнаваемый еще долго запах кожи; и легкий такой стук зубов… Когда пишут: «От поцелуя она чуть не потеряла сознание», — знайте, не всегда врут: я тоже чуть не потеряла сознание — я же любила его, по-взрослому и, типа, по-настоящему!