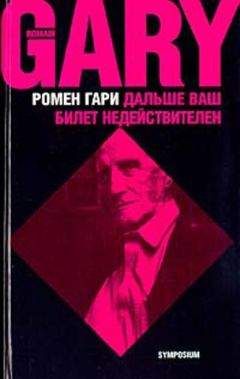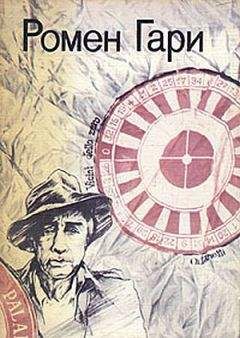— Врешь ты все, лицемер.
— Ладно, может, это произошло и не совсем так, потому что пять тысяч франков, в конце концов, это пять тысяч франков, но клянусь, что это правда, я действительно так чувствую, и мне даже не пришлось за это платить!
Мы еще были вместе, но уже пытались вновь обрести друг друга.
Мне еще остается хорошо если несколько дней в этом беге наперегонки с часами, который я затеял. Я запечатаю эту тетрадь в конверт и запру в сейф в конторе, где ты ее и найдешь, Жан-Пьер, «согласно обычаю древнему и торжественному». Сразу же хочу уточнить, что мысль о самоубийстве никогда меня не посещала, по простой причине, понятной любому мелкому и среднему предпринимателю в затруднительном финансовом положении: страховку не выплатят. Я пока еще стою четыреста миллионов, так что и речи быть не может, чтобы выбросить себя на ветер.
Я бы хотел наконец сказать, что если и имею право на какую-нибудь симпатию, Лора, то всего лишь потому, что боюсь потерять тебя из-за любви, а не как собственник. Я знаю, что мой страх на этих страницах очевиден. Он чувствовался даже в моих отношениях с сыном: желание обрести продолжателя, не лишиться всего окончательно. Когда я понял, что фантазий мне уже недостаточно, я попытался оставить Лору. Мне казалось, что Жан-Пьер смотрел на нее с большим дружелюбием, быть может, даже с нежностью. И он так похож на меня, мой сын: тоже не уступит ни пяди своей территории, как и все в нашем роду. Мне так часто говорили: «Он вылитый вы, Жак, только на тридцать лет моложе…» В общем, я объединил Лору и Жан-Пьера у себя за обедом. Надо было дать шанс удаче. Она норой любит, чтобы к ней чуточку поприставали, подмигнули, приволоклись за ней, и нередко показывает, что чувствительна к воображению. Я ощущал, что дошел в своих отношениях с Руисом и самим собой до предела возможного, и уже готов был смириться, лишь бы только получить какой-нибудь благожелательный знак судьбы. Так что я ловил взгляды Лоры и моего сына, которыми они могли обменяться, или немного затянувшееся молчание, которое прерывают прежде, чем оно станет красноречивым. Не знаю, что бы я сделал, если бы недели через две Лора сказала мне: «Тебе надо знать. Мы с Жан-Пьером любим друг друга». Думаю, что оказался бы на высоте, потому что это был бы прекрасный способ покончить со всем, он предоставлял идеальные возможности для иронии, элегантности и изысканности чувств, позволяя, некоторым образом, быть брошенным так, что это разбивает сердце самим бросающим. Быть может также, я бы тайно подверг Лору испытанию, ибо, чтобы завлечь ее так далеко, как я собирался зайти, не признаваясь в этом самому себе, надо было не ошибиться в глубине привязанности, которую она ко мне хранила. Лора была с Жан-Пьером столь естественна и непринужденна и столь безразлична в своей любезности, что я поймал себя на мысли, слитной известной, чтобы не привести ее здесь, — великие комики редки на наших экранах, и даже сам Чарли Чаплин без колебаний дал себя облагородить — Лора наверняка считала, что Жан-Пьер еще слишком молод для нее: она хотела чувствовать рядом с собой присутствие человека зрелого и рассудительного, чтобы ее направляла опытная рука… Я не смог удержаться от смеха.
— Что за таинственные смешки? — спросила Лора.
— У моего отца довольно насмешливые отношения с самим собой, — заявил Жан-Пьер.
— Родная, я собирался вас поженить, тебя и моего сына…
— Боже, какой ужас!
— Спасибо, Лора, очень мило с вашей стороны, — заметил Жан-Пьер.
Я вернулся к своей рыбе.
— Страх потерять тебя, — пояснил я. — Так что играю на опережение.
— Другая черта в характере этого господина, — сказал Жан-Пьер. — Он считает, что существует искусство проигрывать, которое называется «юмор». Это нередко ведет к тому, чтобы отказываться от победы из страха поражения…
— Только не говорите мне, что во Франции тоже делят людей на «победителей» и «неудачников». Я думала, это только в Америке…
— Лора прелестна, дорогой отец. Но она создана для радости жизни, веселья, счастья. Ты же считаешь, что не на этих основаниях можно создавать семью…
— Он становится желчным, — сказала Лора.
— … Как-то раз я прочел в газете одно «личное» объявление: «Ищу подругу жизни, хорошо знающую бухгалтерский учет, расценки, составление баланса и управление предприятием…»
— Это не ново, — отозвался я. — Так было всегда.
— А может, потому и стоит прекратить? — сказала Лора.
— Можно, например, полагать, что мужчина моего возраста уже не рентабелен, в инвестиционном смысле, для очень молодой женщины. Нет ни достаточного будущего, ни возможного расцвета, ни перспектив…
Лора встала:
— Я вас оставляю, раз вы начали говорить о делах… — Ее голос дрожал. Она силилась улыбаться. — Почитаю тут рядышком Карла Маркса. Пока. До свиданья, Жан-Пьер.
— Брось заодно взгляд на «Одномерного человека» Маркузе и на Грамши, — сказал я. — Они на той же полке.
Я сидел закрыв глаза. Молчанию было сто лет.
— Меня это не касается, но, может, это не было уж столь необходимо? — спросил Жан-Пьер.
— Ладно. Согласен. Сожалею. Так о чем бишь мы?
— Я только что два часа говорил с адвокатом Кляйндинста. Он изменил свое предложение… Я тут набросал для тебя вкратце.
Он достал из своего бумажника листок бумаги и развернул его: всего несколько строчек. Жан-Пьер мастер краткости. Я быстро взглянул на цифры и сунул свой смертный приговор в карман. Жан-Пьер наблюдал за мной.
— Ну?
— Я подумаю.
— Ты ведь не собираешься это принять? Ты на слом стоишь в два раза больше.
— Не уверен.
— Но как же! Площади в Нанте, здания, машины, запасы на складах… Он тебя берет за горло.
— Он хорошо осведомлен, вот и все. Конечно, это непорядочно. Но не всегда удается кончить красиво…
— Мы можем продержаться до октября. А потом, глядишь, конъюнктура изменится.
— Она не изменится. Вернее, изменится не для нас. Помнишь про «слабаков», от которых избавляются? Фуркад официально утвердил выживание сильнейших. Он прав. Чтобы устоять в конкуренции, нужны колоссы… Это век гигантов мирового масштаба, борьба за завоевание рынков… Европейская держава, вот что. Конечно, это фальшивка, потому что все наши источники энергии, почти все запасы сырья — больше восьмидесяти процентов, — все эти питательные вещества, без которых мы не можем обойтись, находятся не в наших подвалах, а у других, за океанами, в странах таких новых, что мы едва знаем их названия… Но мы продолжаем поступать «как если бы» и разглагольствовать вслух о «независимости»… Показываем фокусы, блефуем… Этим летом я крутил ручку своего радиоприемника и наткнулся на интервью с Жобером. Журналист ему говорит: «Но вы же были тогда министром иностранных дел!» А Жобер отвечает: «Простите, я был иллюзионистом на посту министра иностранных дел!» Ничего себе признаньице, а?
Жан-Пьер не спускал с меня глаз. Я хорошо знал этот взгляд: он внимательно слушал мои рассуждения, но в первую очередь пытался определить степень моей психологической «надежности»…
— Я не могу бороться против транснациональных компаний. Стало быть, не вижу другого решения, кроме как принять предложение Кляйндинста. Если этого не сделать, то не пройдет и трех месяцев, как вмешается фонд поддержки и приберет дело по франку за акцию. Есть одна вещь, которую ты не учел в своей бумажке… С твоей стороны это не забывчивость, о нет! Это элегантность: ты целомудренно избежал упоминания о моей страховке за подписью трех компаний. Это составляет четыреста миллионов — для тебя и твоей матери…
Я встал:
— Вот она, моя цена на слом!
Я проводил его до двери, прошел через гостиную и заглянул в библиотеку. Лора только что ушла: в пепельнице еще тлела сигарета. Я потушил ее. Рядом с пепельницей на столе — клочок бумаги, покрытый ее танцующим почерком… «Я знаю. Понимаю. А также то, что ни к чему говорить об этом, это — вещи без слов. Но Боже мой, что с нами будет, Жак? Я не хочу потерять тебя по причинам столь… материальным. Да, физическим, это одно и то же. Я подозреваю, что для тебя в этом смешались гордость, благородство, достоинство, но клянусь тебе, я не понимаю, что это значит, когда любишь. Я хочу и дальше быть счастливой с тобой, по ту сторону всего этого. А впрочем, кто тебе говорит о счастье? Я тебе говорю только о любви. Не бросай меня ради своего образа, Жак, ради собственного представления о себе самом. Это слишком нечестно. Не говори мне об этом письме. Не говори мне обо всех этих вещах. Я хочу, чтобы все между нами было по ту сторону…»
Я скатился по лестнице и прыгнул в такси. В гостинице ее не оказалось. Я обошел все бразильские заведения, куда она порой заходила «хлебнуть» своей музыки. Нашел ее в «Панго», она сидела в темном уголке, слушая, как какой-то негр заставлял плакать свое фортепьяно. Я ничего не сказал, просто сел рядом. Взял ее за руку, чтобы слова помолчали. Мы сидели там до рассвета и слушали музыку. Всему нужно начало.